Книга: Мистер Эндерби изнутри
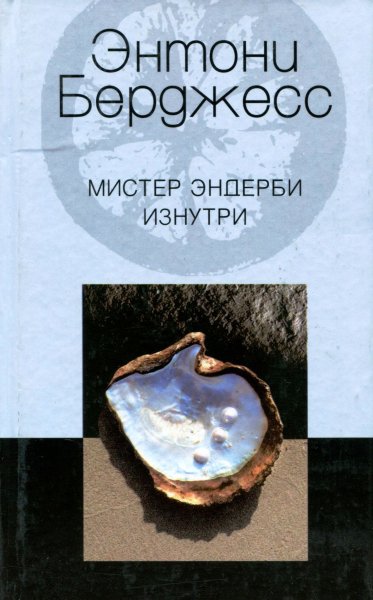
Мистер Эндерби изнутри
Д’Арси Коньерсу
— Allons, dernier des poètes,
Toujours enfermé tu te rendras malade!
Vois, il fait beau temps, tout le monde est dehors, Va donc acheter deux sous d’ellébore,
Ça te fera une petite promenade[1].
Пфффрррумммп.
И вам тоже очень счастливого Нового года, мистер Эндерби!
Однако пожелание звучит впустую с обеих сторон, ибо для ваших ночных визитеров этот год очень старый. Мы, шепчущие, щупающие, шуршащие, поскрипывающие в вашей спальне, — те самые потомки, к которым вы адресуетесь с такой надеждой. Поздравляем, мистер Эндерби: вы уже здорово вмазали по павильонным часам. Если сейчас проснетесь от очередного желудочного или двенадцатиперстного приступа, которые представляют для нас столь же гадкую перчинку лекций по литературе, как скрофула Джонсона, скатофобия Свифта, смертоносная галопирующая кровь Китса не воображайте, будто слышите призраков, посвистывающих и поскрипывающих вокруг постели. Чтобы стать призраком, надо сперва умереть или хотя бы родиться.
Перрррп.
Ответ мистера Эндерби задним числом. Не трогай, Присцилла. Мистер Эндерби не вещь, чтоб его тыкать, а спящий великий поэт. Альберта, пожалуйста, вытащи у него изо рта свой грязный палец. Его рот открыт не для дилетантского осмотра зубов, а чтобы можно было дышать. Нос, как орган, в сорок пять пережил свое лучшее время, превратившись в два кривых черных провала — каждый со своей миниатюрной подмышкой, — забитых, заложенных. Вспомните, ранние его стихи посещали мир запахов (страницы 1-17 в сборнике избранного, изданном Гарвардским университетом, каковой является вашим учебником). Там у нас мытые волосы, пикули, дрок, соли для ванны, кожа, карандашные стружки, консервированные персики, почтовые конторы, миссис Лейзенби на углу в магазине с его естественным трущобным гвоздичным диабетическим запахом. Но в зрелых произведениях ничего подобного не существует; двустворчатые двери навсегда закрылись. Этот мягкий шум, Гарольд, называется храпом. Да, Кристина, зубы у него, как верхние, так и нижние, съемные: их кладут вот в этот пластмассовый ночной сосуд. Детка, детка, ты пролила жидкость для зубов на ковер домовладелицы мистера Эндерби. Нет, Робин, ковер не редкий и не красивый, но он принадлежит миссис Мелдрам. Да, сам мистер Эндерби принадлежит нам, принадлежит всему миру, но это ковер его домовладелицы. Миссис Мелдрам.
Дальше. Его волосы ежедневно перекочевывают с головы на щетку, крошечный отряд за отрядом, с билетом в один конец. Вон на туалетном столике лежат щетки в оправе из поддельного серебра, завещанные ему отцом, табачником. Очески действительно грязные, Мевис, но у великих поэтов есть другие дела, кроме соблюдения гигиенических правил. Смотрите, вот эти очески составляют дневную квоту немногочисленных остатков волос мистера Эндерби. Священные реликвии, дети. Не спешите. Каждому по одному. Так. Бережно храните их в дневничках потомков текущего года. Выпавшие волосы, Генри, переходят в собственность их подобравшего. Они мистеру Эндерби не нужны, но уже оцениваются в классических аукционных залах приблизительно в фунт, если удачно повышать ставки. Одри, не надо пытаться выдернуть живой волос, это нехорошо. Столь грубого рывка достаточно, чтобы разбудить мистера Эндерби.
Грпрхррмп.
Видите? Он потревожен. Дайте ему успокоиться, как даешь успокоиться взбаламученной воде. Хорошо. Согласитесь, дети, мистер Эндерби лучше всего смотрится, перевернувшись на крестец и сбросив одеяло, соскользнувшее на пол. Живот выпирает двумя деликатными холмиками по обеим сторонам от перерезающего пижамного пояса. Смотрите, тут волос обильный. Одна из отвратительных иронических особенностей среднего возраста заключается в том, что волосы отступают вниз с благородной вершины, орлиного гнезда, оставляя ее лысой, точно орел, чтобы лагеря, казармы и гарнизоны вульгарного теплого тела густо зарастали порослью, бесполезной и некрасивой. Грудь тоже отвисла, смотрите. Богатая волосами, оживленная пучками и завитками. Кроме того, подбородок и щеки в щетине. Ощетинились, сказал бы Мильтон.
Да, Дженис, я вынуждена согласиться, спящий мистер Эндерби выглядит не слишком приятно, даже в полной темноте. Все мы заметили редкие волосы, беззубый рот, обильные складки плоти, которые вздымаются и опадают. Но что общего у величия с приятностью, а? Все вы должны серьезно над этим подумать. Альберта, тебе не хотелось бы за него выйти замуж? Может быть, и с другой стороны не возникло б такого желания, даже еще в большей степени, ты, глупая, глупо смешливая тварь? Кто ты такая, чтоб думать, будто тебе хоть когда-нибудь выпадет шанс сочетаться с великим поэтом?
Конечности. Стопа, топчущая Парнас. Смотрите, мозоли на запутанной карте ступни. Ногти сломаны, хотя на большом пальце ноги ноготь слишком толстый, чтоб сломаться. Может быть, то и другое связано с долгим мыльным потением, согласитесь. Нищенски протянутая правая рука поистине королевская. Почтительно посмотрите на пальцы, сейчас отдыхающие от писания. Завтра они снова будут писать, продолжая поэму, которую он считает шедевром. Ах, что создали эти пальцы! Каждый целует руку, только тише ползущей мухи. Я понимаю, что акт целования требует усилия для преодоления определенного естественного отвращения. Впрочем, для вас это небольшой урок схоластической философии. Грязные костяшки, черные ногти, глубоко въевшиеся пятна табачной смолы (забытая сигарета держится встречно-гребенчато, пока мысли поэта высоко воспаряют над запахом дыма), загрубевшая кожа — все это внешние преходящие аспекты руки, связанные с обыденным миром еды и смерти. Но в чем суть этой руки? Божественная машина, привносящая в нашу жизнь больше блаженства. Целуйте ее, ну, давайте, целуйте. Алтея, прекрати издавать тошнотворные звуки. Чарльз, лицо твое без того безобразно, нечего морщить его, точно в приступе насморка. Вот так вот, целуйте.
Это его вообще практически не побеспокоило. Тихонечко почесал во сне место, которое пощекотала севшая в поисках пищи мушка. Слушайте. Он во сне собирается что-то сказать. Твой поцелуй принес сонное вдохновение. Слушайте.
Мой постельный партнер погружен
В тяжкий труд, рожая неоплаченный сон.
И все? Все. Но, дети, какой волнительный момент! Вы слышали его голос, правда, сонный, бормочущий, но все равно его голос. А теперь перейдем к тумбочке у постели мистера Эндерби.
Книги, дети, которые мистер Эндерби читает в постели. «Убойные блондинки», что бы это ни значило; «Кто есть кто в Древнем мире», безусловно, полезная; «Афера Раффити» в брутальной обложке; «Как я добился успеха», написано магнатом, умершим от атеросклероза; «Рассказы марианских мучеников», сенсационная. А вот, дорогие мои, собственное сочинение мистера Эндерби: «Рыбы и герои», ранние стихи. Каким он был тогда гением! Да, Деннис, можешь потрогать, только осторожно, пожалуйста. Ох, глупый мальчик, все свалил на пол, просыпалось, словно из душа. Что это спрятано между густо залапанными страницами? Фотографии? Не трогайте, оставьте, это не для вас! Небеса милосердные, и у великих есть слабости. Какой стыд мы непреднамеренно обнаружили. Не хихикайте, Бренда и Морин, сейчас же отдайте мне снимки. Вы разбудите мистера Эндерби гнусным девчачьим фырканьем. Чем они занимаются, Чарльз? Мужчина с женщиной на фотографии? Они занимаются своим собственным делом, вот чем они занимаются.
Бопперлоп.
Покойся, покойся, потревоженный дух. Робин, снимок, пожалуйста. Я его вижу в кармане твоего пиджака. Спасибо. Технический термин, если вам это следует знать, — феллация[2]. А теперь хватит об этом. Может, пройдем потихонечку в ванную мистера Эндерби? Ну вот. Здесь мистер Эндерби пишет почти все свои стихи. Замечательно, правда? Он знает, что здесь остается поистине в одиночестве. Ванна полна рукописей, словарей, шариковых чернильных ручек. Перед унитазом низенький столик, как раз требуемой высоты. Электрический обогреватель греет голые ноги. Почему он выбрал столь низменное помещение? Поэзия, как он говорил в интервью, должна рождаться здесь; поэт чистит время снаружи и изнутри, как клизма. Однако можно точно сказать, тут нечто большее. Нам еще неизвестны какие-то мучительные переживания детства. Но Образовательные Путешествия Во Времени уже собираются проникнуть глубже в прошлое. Кто знает? Возможно, до окончания школы вы еще побываете в приходе Сент-Олав, где Шекспир с гусиным пером трудится над числом слогов в стихах. Найджел, оставь в покое ржавое лезвие, глупый мальчишка. Ну, тише, тише. До комнаты, где он ест и живет, когда не пишет, всего шаг. Нет, Стефани, мистер Эндерби живет один по собственной воле. Любовь, любовь, любовь. Некоторые девчонки только о ней и думают. Любовная жизнь мистера Эндерби до сего момента темна и окутана тайной. Как он относится к женщинам? Вам известны его стихи; хотя там предположительно и говорится о сексе, но мало.
Поррипипууп.
Трубы Царства эльфов. Оставим его в поэтическом мире. Впрочем, еще кое-что. В стихах этого года — разумеется, им еще не написанных, — заметно робкое пробуждение более чем фотографического интереса к женщинам. Но у нас не имеется биографических сведений о любовном приключении, о перемене семейного положения. У нас вообще мало каких-либо биографических сведений. Он по сути своей человек, живущий внутри себя. У нас есть лишь единственный адрес вот этого дома на песчаном морском берегу. Слышите море, дети? Море то же самое, что и у нас, жестокое, зеленое, грязное.
Ну, что о мистере Эндерби скажет нам эта комната? Вот эти по порядку расставленные безделушки явно говорят только о миссис Мелдрам, его домовладелице. Да, с восхищением посмотрите на них: геометрические ряды слонят из черного дерева; прелестнейшие фарфоровые пастушки, играющие на дудочке невидимым овечкам; игрушечный гипсовый тостер с древней блэкпулской позолотой, леденцовая копия потускневшего Брайтонского павильона, подсвечник из папье-маше под мрамор, фарфоровая сучка с фарфоровыми щенками, филигранная шкатулка для пуговиц из листового железа. Нравится вам картинка над электрическим камином? Она изображает ржаво-красных мужчин, готовящихся к утренней охоте; все мужчины одинаковые, предположительно потому, что псевдохудожник мог себе позволить единственного натурщика. На противоположной стене британские адмиралы XVIII века разворачивают карты terra incognita, на которые из пивных кружек льется вино, где отражаются вспышки огня. Вот веселые монахи едят в четверг рыбу, а вот лакают в пятницу праздничное угощение. На полоске стены за кухонной дверью горшок в виде головы двадцатилетней девки в шляпе, с накрашенными губами. Эмили, оставь свой нос в покое. Надо ли говорить, Чарльз, что пускать на нижней губе слюнявые пузыри — ребячество. Кухню вряд ли стоит осматривать. Ладно, если настаиваете.
Как воняет заплесневевшим хлебом! Видите, рыба светится в темноте. Кастрюли на верхней полке. Не трогай, Деннис, не трогай. Вот идиотик проклятый. Вся начищенная распроклятая куча посыпалась с громом и звоном. Чертов дурачок. Вы не так у меня посмеетесь, когда снова вернемся в цивилизацию. Ох, боже, сковородка чайник опрокинула. Газовая плита полна воды. И какой отвратительный металлический гром, черт возьми. Кто перец рассыпал? Перестаньте чихать, чтоб вас всех разразило. А-а-а-а-а-а-пчхи! Каквыбезобразиичаете! Ну, быстро отсюда.
Никто из вас доверия не заслуживает. В последний раз устраиваю подобную экспедицию. Взгляните на викторианские крыши, сверкающие, как рыбья чешуя, под новогодней луной. Больше вы их никогда не увидите. Равно как и город, в чьих домах и квартирах пенсионеры и умирающие храпят до рассвета. Очень смахивает на огромную расческу — правда? — ручка поблескивает драгоценными камешками, дорожки зубцов прочесывают холмистые окраины, волосяные клочья дыма на железнодорожном вокзале. Над нами январское небо: Щит, Змееносец, Стрелец, на западе планеты зрелости, войны, любви. А мужчина внизу, которого звон дешевого металла пробудил от диспепсического и метеорического сна, придает всему этому смысл.
Эндерби проснулся, одновременно слыша шум и изжогу. К изголовью кровати прикреплена была лампа в пластмассовом абажуре. Он включил ее, осознал, что дрожит, увидал почему. Подобрал с пола клубок одеяла, плотно укрылся, снова лег смаковать боль. В ней присутствовала необъяснимая нота сырой репы. Шум? Кухонные боги дерутся. Крысы. Нужен бикарбонат натрия. Надо — напоминал он себе, как минимум, в семитысячный раз, — не забыть развести его и держать под рукой у кровати. Сырая заостренная репа кинжалом пронзила грудину. Пришлось встать.
Одеревенело шлепая из комнаты в крошечный коридорчик квартиры, он видел себя в зеркале гардероба — ревматический робот в пижаме. Вошел в столовую, включил свет, по-собачьи принюхался, словно вынюхивал чье-то ловко скрытое присутствие. Вокруг хныкали духи, точно, духи умершего года. Или, может быть, — он криво усмехнулся подобному предположению, — нерешительно заглянули потомки. Удивил беспорядок на кухне. Впрочем, бывает: тонкое равновесие нарушается микрометрическим проседанием старого дома, сотрясеньем земли, своевольными монадами в самой кухонной утвари. Взял из раковины мутный стакан, сыпнул снегом бикарбонат натрия, размешал двумя пальцами, выпил. Выждал тридцать секунд, косясь в стеклянную филенку задней двери. Крошечная рука, спрятанная под надгортанником, махнула, сигналя подъем. А потом.
Восхитительно. Ох, какое облегчение, доктор! Я считаю себя обязанным письменно выразить вам благодарность за благотворное средство. Аааааарп. Почти сразу же после второго спазма облегчения пришел яростный бесстыдный голод. Он продвинулся на три необходимых шага от раковины до буфета и обнаружил, что замерзающе шлепает в пролитой у плиты воде. Вытер ноги об упавшее посудное полотенце, расставил на полках свалившуюся посуду, содрогаясь при наклоне от старческих болей в пояснице. Потом вспомнил — зубы нужны, поплелся назад в спальню за ними, включив попутно в гостиной камин. Вернувшись в гостиную, щелчком сверкнул перед зеркалом искусственными челюстями и сплясал своему отражению короткий топочущий яростный танец. В буфете оказались катышки окаменевшего чеддера в промасленной обертке. Одинокая головка цветной капусты плавала среди плотных пикулей кукольными мозгами. Полбанки сардин, мягких закругленных ножичков в золотом масле. Поев руками, насухо вытер их об пижаму.
Кишечник среагировал почти сразу. Он помчался, как человечек в комическом фильме, сел, вздохнул, щелкнул выключателем обогревателя. Почесал голые ноги, вдумчиво прочел путаный набросок, над которым работал. Пфффрумпффф. Попытка аллегории, повествовательная поэма, сплавившая два мифа — критский и христианский. Крылатый бык низвергся с небес в завывающем ветре. Уиииииии. Царица, супруга законодателя, подверглась насилию. Нося ребенка, объявленная мужем шлюхой, она инкогнито перебирается в крошечную деревушку царства, где рожает Минотавра в дешевой гостинице. Но старая беззубая ухаживавшая за ней карга тайну не сохранит, разболтает по всей деревушке (весть распространится дальше, в городах, в столице), будто бог-зверь-человек сошел править миром. Пррфрр. Партия государственных анархистов с надеждой приготовилась восстать против законодателя: традиция говорит о пришествии божественного вождя. Разразилась гражданская война, пропаганда с обеих сторон заиграла пляшущими огнями. Зверь — дьявол, сказал царь Минос: схватите его, и убейте его. Зверь — бог, кричали мятежники. Но никто, кроме царицы-матери и беззубой повитухи, зверя никогда не видел. Бррррбфррр. Маленький Минотавр быстро рос, похотливо ревел, надежно спрятанный с маткой в одиноком домишке. Однако в результате предательства минойская армия получила сведения об их местопребывании. Очевидно, думал Минос, когда тварь доставили во дворец, хоть формально чудовище, а не ужасное: ласковые глаза — двойные миры любви. Завладев талисманом и амулетом мятежников, Минос сумел заставить их сдаться. Велел выстроить лабиринт, просторный, мраморно-великолепный, в сердцевине спрятал Минотавра. Это был несказанный кошмар, по слухам, питавшийся человеческим мясом; пугало государства, вина государства. Впрочем, Минос был экономным: периферические коридоры лабиринта стали обителью критской культуры — университет, музей, библиотека, картинная галерея; сокровищница человеческих достижений; красота и знание разрастались вокруг греховной сердцевины, человеческой сущности. Пррррф. (Завертелся рулон туалетной бумаги Эндерби.) Но с запада прилетел однажды пелагианец-освободитель[3], мужчина, никогда не знавший греха, убийца вины. К тому времени давно умер Минос вместе со своей бесстыжей царицей, а повитуха гораздо, гораздо раньше. Говорили, что никто не видел чудовища, оставшись в живых после этого. Приветствуемый радостным хором, цветами, вином, освободитель взялся за свой героический труд. Мускулистый, бронзовый, светловолосый, безгрешный, вошел в лабиринт и через день вышел, ведя на веревке чудовище. Ласковое, как ручное животное, оно страдальческим и прощающим взглядом взглянуло на человечество. Человечество его схватило, обругало, избило, наконец, пригвоздило к кресту, где оно медленно умирало. В тот миг, когда оно испустило дух, раздался гром и треск. Лабиринт рухнул, книги сгорели, статуи разбились в меловую пыль, цивилизации пришел конец. Брррп.
Поэма носила условное название «Ручной Зверь». Эндерби знал, что над ней еще много придется работать, уточнять символы, распутывать технические узлы. Туда надо ввести Дедала[4], бесстрастного мастера, антиобщественного гения, нашедшего окончательное решение полета. Есть еще пантомимическая корова Пасифаи[5]. Он попробовал процитировать неумелым грубым низким голосом пару строчек притихшей аудитории из висевших грязных полотенец:
Правосудие царь хладнокровно во сне вершит,
А другой просыпается, готов взяться за дело,
Пилит мягкие бревна со свистом, спешит.
Закон яркими нитками шит:
Мастер должен не спрашивать, а работать умело.
Эхом раскатившиеся в крошечной клетушке слова моментально подействовали на манер заклинания. Сразу за хлипкой дверью квартиры мистера Эндерби на первом этаже располагался входной вестибюль собственно дома. Послышался скрип массивной открывшейся парадной двери, подъезд как бы наполнился отмечавшими Новый год. Он узнал глупый незвучный голос продавца из верхней квартиры, плотно наевшийся смех жившей с ним женщины. И другие голоса, знакомым личностям не принадлежавшие, но родовые — голоса читателей «Дейли миррор», зрителей Ай-ти-ви, покупателей соуса «Эйч-пи», любителей «Бэбишама»[6]. Прозвучали громкие радостные приветствия:
— Счастливого Нового года, Эндерби!
— Прррррррррп!
Плотно наевшийся женский голос сказал:
— Неважно себя чувствую. Меня сейчас стошнит. — И точно, судя по звукам, сейчас же стошнило. Кто-то крикнул:
— Прочитай нам стих, Эндерби, «Эскимоску Нелл» или «Славный корабль Венеры».
— Спой нам песню, Эндерби.
— Джек, — слабо проговорила стошнившая женщина, — я прямо поднимаюсь, мне надо.
— Поднимайся, любовь моя, — сказал голос продавца. — Я через минуту тебя догоню. Сначала спою серенаду старику Эндерби. — Кто-то шумно ударился в дверь квартиры Эндерби, хормейстер скомандовал:
— Раз, два, три, — и буйно зазвучал искаженный мотив «Ach Du Lieber Augustin»[7], но с грубыми английскими словами:
А пошел ты, Эндерби, Эндерби, Эндерби,
А пошел ты, Эндерби, в задницу, да.
Он нас игнорирует, пока мастурбирует, а мы тогда…
Эндерби заткнул уши шариками туалетной бумаги, смоченными слюной. Надежно запертый в квартире, еще надежнее заперся теперь в ванной. Почесывая согретые голые ноги, постарался сосредоточиться на поэме. Отмечавшие вскоре отстали, рассеялись. Ему показалось, будто он слышал, как продавец крикнул:
— Кончай сам с собой, Эндерби.
Уютно укутанный против резкого морского утра, Эндерби шел к морю по Фицгерберт-авеню. Часы на муниципалитете показывали десять тридцать, пабы как раз открывались. Он миновал «Грэдли» («для Людей Высшего Сорта»), «Кия-Ора» (отставные нелетающие пилоты), «Тай-Гвин» (супруги из Тредегара), «Вид на Канал»[8], «Белые столбы», «Дольче Домус», «Лавры», «Итаку» (бывший преподаватель классической школы и осужденный педераст). Превращенные в квартиры, униженные до пансионов, все они принадлежали чужакам с северных и западных окраин, очарованным светлым образом южного побережья: по ночам Франция подмигивает за водой, здешний воздух приятно мягок. Только не сегодня, думал Эндерби, потирая шерстяные медвежьи ладони. На нем был шарф цвета неаполитанского льда, плотно затянутое поясом пальто из мелтона[9], от небес защищал баскский берет. Дом, где он снимал квартиру, названия, благодарение тем же самым небесам, не имел. № 81, Фицгерберт-авеню. Появится ли когда-нибудь на нем табличка, отмечающая, что он тут жил? По его мнению, наверняка нет. Он из вымирающей расы, с которой не считается мир. Ура.
Эндерби свернул на эспланаду, встал в кондитерской в старушечью очередь, вышел с батоном за семь пенсов. Направился к парапету у моря, облокотился, терзая батон. Чайки с криками заколесили за брошенным хлебом, жадные твари с глазами-бусинками, а море, зимний серо-зеленый Канал, с гиканьем накатывалось, ворчливо откатывалось, словно по мановенью хлыста укротителя львов, сердито тарахтя в многочисленные тамбурины. Эндерби бросил последние крошки колючему ветру и его планирующим серым птицам, потом пошел от моря. Оглянулся на него перед входом в «Нептун», видя в нем, как часто видел на расстоянии, умного гадкого зеленого ребенка, научившегося рисовать от руки прямую линию.
Бар-салун «Нептуна» уже наполовину заполнили старики, в основном овдовевшие.
— Доброе утро, — сказал угасающий генерал-майор, — и счастливого Нового года.
Двое древних мужчин сопоставляли артриты над детскими порциями крепкого портера. Бородатая леди выпила портвейну и медленно, беззубо пожевала губами.
— И вам также, — сказал Эндерби.
— Только б дожить и увидеть весну, — сказал генерал, — вот и все. Все, на что я могу надеяться.
Эндерби сел со своим виски. Среди стариков он чувствовал себя как дома, одним из них, несмотря на свою смехотворную молодость. Все равно, его официальный возраст был просто страховочным шифром; вспыхнувший в кишках от дошедшего виски огонь, боли, ломота, отсутствие интереса к действиям — все это превращало его в старика, вроде калек, с которыми он сидел.
— Как, — спросил слегка трясущийся мужчина, сделанный из пергамента, — как, — выпивка в его руке тряслась стаканчиком с игральными костями, — как желудок?
— Какие-то спазмы, весьма примечательные, — сообщил Эндерби. — Знаете, почти наглядно заметные. И метеоризм.
— Метеоризм, — сказал генерал-майор, — ах да, метеоризм, — сказал он, как будто о старом редком вине. — У меня уже много лет. Теперь я, конечно, не ем ничего. Немного хлеба, размоченного в теплом молоке, утром и вечером. Клянусь, вот этот вот ром поддерживает во мне жизнь. Я ведь вам рассказывал, правда, о непредвиденных осложнениях с ромом в пансионе «Брудерс»?
— Несколько раз, — подтвердил Эндерби. — История очень хорошая.
— Правда? — переспросил генерал, страдальчески оживившись. — Хорошая, да? И правдивая. Невероятная, но правдивая.
С круглого стула у стойки заговорила плебейка-карга в грязном черном.
— Мне, — сообщила она, — часть желудка удалили. — Последовало молчание. Старики пережевывали это щедрое откровение, размышляя, действительно ли оно отвечает лучшим вкусам, звуча из уст женщины, да к тому же сравнительно незнакомой. Эндерби любезно заметил:
— Должно быть, переживание сильное. — Старуха хитро взглянула, вцепилась в край стойки бумажными пальцами, побелевшими на костяшках как мел, развернула стул к Эндерби и очень громко сказала:
— Пардон?
— Переживание, — пояснил Эндерби, — незабываемое вовеки.
— Шесть часов на столе, — сказала женщина. — Никому из присутствующих не побить.
— Крамп, — крикнул генерал-майор дисциплинарным болезненно-бледным, точно проросшая картошка в подвале, тоном. — Крамп. Крамп. — Он не изображал разрывы снарядов во время Первой мировой войны, а просил бармена налить еще рому. Крамп в белой куртке официанта вышел из-за стойки, семидесятилетний, с фальшивой улыбкой, слабоумной и одновременно заискивающей, с постоянно склоненной набок седой головой прислушавшегося попугая.
— Да, генерал, — сказал он. — Такого же, сэр? Отлично, сэр.
— Я всегда ему говорю, — сказал старец с коротышечной головой Сибелиуса, — насчет употребления этого слова. Обычно для барменов и домохозяев. Говорят, того самого еще раз не получишь. А мы фактически просим именно того самого. А вовсе не такого же. Вы словами занимаетесь, Эндерби. Писатель. Как смотрите на подобный вопрос?
— Того самого, — согласился Эндерби. — Из той же самой бутылки. А такое же — нечто другое.
— Профессор Тейлор весьма убедительно это оспорил бы, — вставил старик, пятнистый, как салями, с каплей росы на крючковатом носу.
— Что с Тейлором? — спросил генерал-майор. — Его довольно давно не видно.
— Умер, — объявил пятнистый старик. — На прошлой педеле. Пока пробку вытаскивал. От сердечной недостаточности.
— Ему только что перевалило за восемьдесят, — вставил старик, только что переваливший за восемьдесят. — Не такой старый.
— Тейлор умер, — проговорил генерал. — А я и не знал. — И принял ром у расшаркавшегося Крампа. Крамп принял серебро, раболепно склонив разбитый и склеенный торс. — Я думал, раньше него уйду, — сказал генерал, — а вот, все еще здесь.
— Вы совсем не такой старый, — заметил трясущийся пергаментный старик.
— Мне восемьдесят пять, — пыхнул негодованием генерал. — Я бы сказал, очень старый.
Из углов посыпались более высокие ставки. Одна женщина скромно призналась в девяноста. И как бы в доказательство исполнила несколько кругов вальса, мыча из «Веселой вдовы». Снова села под вежливые шокированные аплодисменты, с посиневшими губами, с почти наглядно колотившимся сердцем.
— А, — спросил мужчина-Сибелиус, — вам сколько, Эндерби?
— Сорок пять.
Послышалось одновременно презрительное и довольное фырканье. Один человек из угла пропищал:
— Если это задумывалось как шутка, по-моему, не очень хорошего вкуса.
Генерал-майор сурово и целенаправленно повернулся к Эндерби, сложив обе руки на набалдашнике ротанговой трости в виде бульдожьей головы из слоновой кости.
— И чем вы на жизнь зарабатываете? — поинтересовался он.
— Вы же знаете, — сказал Эндерби. — Я поэт.
— Да-да, но чем на жизнь зарабатываете? Только сэр Вальтер Скотт поэзией на жизнь зарабатывал. Да еще, может, тот самый англо-индус, что жил в Буруоше.
— Кое-какие капиталовложения, — объяснил Эндерби.
— Какие именно капиталовложения?
— Ай-си-ай, Би-эм-си и «Батлин». И местные государственные займы.
Генерал-майор хрюкнул, словно все ответы Эндерби заслуживали подозрения.
— В каком были чине на прошлой войне? — спросил он, нанеся последний удар.
Прежде чем Эндерби сумел дать лживый ответ, с низкого стула у плетеного столика упала высокая худая женщина в очках в черной оправе. Старики тряско потянулись за палками, чтоб подняться на помощь. Но Эндерби успел первым.
— Вы ошень добры, — благовоспитанно сказала женщина. — Ошень ижвиняюшь жа бешпокойштво. — Явно накачалась дома до открытия. Эндерби поднял ее с пола, легкую, негнущуюся, как пучок сельдерея. — Подобные вешши, — сказала она, — слушаются в лушших шемейштвах.
По-прежнему цепляя ее за подмышки руками-крюками, Эндерби потрясенно увидел в большом зеркале Гилби на противоположной стене образ своей мачехи. Задрожав, едва снова не уронил ношу на пол. Образ кивнул ему, словно анимационный рисунок в телевизионной рекламе, взмахнул бокалом в новогоднем поздравлении, потом как бы споткнулся, выскочил из кадра в кулисы и исчез таким образом.
— Кончайте с ней, Эндерби, — брюзгливо буркнул генерал-майор. — Посадите обратно на стул.
— Ошень любежно, — продолжала женщина, всеми силами стараясь сосредоточиться на своем стакане с джином. Эндерби поискал в зале источник зеркального образа, но увидал лишь согбенную спину, ковылявшую к «Муж.» Может, так оно и есть, обманчивая игра света или Нового года. Странно, именно мачеха рассказывала ему, ребенку, будто в Новый год по улицам расхаживает мужчина, у которого столько носов, сколько дней в году. Он ходил искать того мужчину, с опаской считая его членом семейства Антихриста, что бродит по свету перед Судным днем. Долго после разгадки обмана Новый год обладал для него раздражающим мрачным привкусом — день возможных чудес. Он был вполне уверен, что мачеха умерла, похоронена. Если речь идет о нем, она свое дело сделала. Незачем ей оставаться в живых, восставать из могилы.
— Ну, — сказал генерал-майор, когда Эндерби снова уселся с новой порцией виски, — так в каком, говорите, были чине?
— Я генерал лейтенантом был, — сказал Эндерби. Запятые в устной фразе нисколько не хуже дефиса.
— Не поверю.
— Проверьте. — Эндерби почти точно видел мачеху, покидавшую торговый розничный отдел с чекушкой «Бута» в сумке. Паб «Нептун» принадлежал к тому типу, где любая из трех частей — салун, общий зал, вестибюль — видна из любой другой части. Эндерби пролил виски себе на галстук. Еще не произнесший ни слова старик с трясущейся тщательностью ткнул в Эндерби пальцем и сказал:
— Вы пролили виски на галстук.
Эндерби чувствовал, что страх может усугубить ситуацию. Внешний мир небезопасен. Надо вернуться домой и закрыться, работая над поэмой. Прикончил остатки в стакане, застегнулся, водрузил баскский берет. Генерал-майор сказал:
— Я не верю вам, сэр.
— Как пожелаете, генерал, — сказал экс-лейтенант Эндерби. И с генеральским салютом ушел.
— Лжец, — сказал генерал-майор. — Я всегда знал, нельзя ему верить. И что он поэт — не верю. С виду нынче утром совсем не заслуживает доверия.
— Я про него в публичной библиотеке читал, — сообщил салямисто-пятнистый мужчина. — Там и фотография есть. Статья вроде бы вполне высокого мнения.
— Кто он такой? Откуда приехал? — спросил другой.
— Держит все при себе, — пояснил пятнистый мужчина и в самое время шмыгнул, втянув гибельную каплю росы.
— Все равно лжец, — заключил генерал-майор. — Загляну сегодня в армейские списки.
Он так этого и не сделал. Раздраженно дергавшийся с застарелого похмелья автомобилист сбил его на переходе через Ноллекенс-авеню. Генерал-майор приобщился к славе задолго до весны.
Уйдя с воздуха с когтистыми чайками, с новогодней синевой, со сливочно ползущим приливом, Эндерби чувствовал себя лучше. В резком свете нет места призракам. Но воображаемое посещение подействовало, как приказ почтить прошлое, прежде чем по обычаю в начале каждого года взглянуть на будущее.
Сперва Эндерби думал о матери, умершей при его рождении, о которой, кажется, сведений никаких не осталось. Он любил представлять себе юную женщину, благородную блондинку, сладко-утонченную, стройно-гибкую. Ему нравилось воображать ее окутанной золотом, в дышащей пчелиным воском гостиной, напевающей «Все проходит» под собственный аккомпанемент. Угасающая жара июльского дня печально поет в широко открытые французские окна из сада, где пылают «кримсон глори», «мадам Л. Дьюдон», «Ина Харкнес», «голден спектр». Он видел своего отца, превратившегося в педанта, в библиотекарских шлепанцах, выпускавшего кольца дыма из трубки с овальным отверстием, слушавшего, в тихом удовольствии кивая головой. Однако отец никогда таким не был. Табачник, оптовый торговец, выстраивал строчки в гроссбухе с линейкой-скипетром из черного дерева, сидя в конторе за магазином в жилетке, в черном котелке, всегда радуясь наступившему времени открываться. Почему? Чтоб избавиться от той суки, второй жены. Зачем он на ней женился, господи помилуй? «Деньги, сын. Первый оставил ей целый мешок. Будем надеяться, пасынок пожнет плоды». В определенной степени так и вышло. Отсюда несколько сотен в год от Ай-си-ай, «Бритиш моторс» и прочее. Но разве оно того стоило?
О, она, та самая, была неизящной и грубой. Медуза весом в центнер, в кольцах, в брошках, испускавшая женские запахи до высочайших небес; ее спальня, вонючая, словно давно повешенный заяц или говяжья убоина, изобиловала грязными панталонами, мятыми комбинациями, дурно пахнувшими корсетами. Опухшие суставы пальцев, пухлые ладони, на запястьях валики жира, слизисто-белые руки, которые обнаженными выглядели неприлично, как ляжки. Она была заскорузлой, с выпиравшими на ступнях косточками; мозолистой, с варикозными венами. Здоровая корова, выла от боли в суставах, нескончаемой мигрени, слабой спины, больных зубов. «Ноги болят, — говорила она, — до смерти». Громко пускала ветры, даже в публичных местах. «Доктор говорит, пускать надо. Всегда можно извиниться». У нее были омерзительные привычки. Старыми трамвайными билетами ковыряла в зубах, чистила уши заколками для волос — накопившаяся в U-образных головках сера темнела и затвердевала, — чесала сквозь платье промежность, издавая звуки вроде чирканья спичек о коробок, слышные за две комнаты; из всего, что ела, сооружала огромные сандвичи; резала мясо ножницами, выплевывала обратно в тарелку пережеванную кожу с бекона или свиные шкварки, вытаскивала из дуплистых зубов мясные волокна и демонстрировала всему свету, вылавливала куски побольше грязными колбасками-пальцами, рыгала с ревом судна в тумане, субботними вечерами блевала крепким портером, крепко трубила в уборной, громко говорила без хаканья и без грамматики; глумилась над книгами, кроме «Старого альманаха Мура» с понятными ей апокалиптическими картинками. Всю жизнь буквально неграмотная, подписывала чеки, переписывая свое имя с образчика на засаленном клочке бумаги, старательно копируя, как китаец иероглиф. Готовила в основном жареное, предварительно позаботившись, чтобы жир был чуть теплым. Впрочем, заваривала хороший чай, богатый танином; обучила своему способу юного Эндерби, чтобы он мог утром принести ей чашку: три ложечки на рыло и еще две на чайник; концентрированное молоко лучше свежего; не жалей сахару. Шестиклассник Эндерби стоял над ней, пока она пила чай в постели, — косматая, морщинистая, опухшая, вонючая развалина, — на самом деле не пила: чай как бы впитывался в нее, словно в пересохшую землю. Когда-нибудь он сыпнет в чашку крысиного яду. Но он этого так и не сделал, хотя крысиный яд купил. Ненависть? Вы даже не представляете.
Когда Эндерби было семнадцать, отец уехал в Ноттингем осматривать табачную фабрику, и дома не ночевал. Июльская жара (мачеха выглядела ужасно) разразилась проливным дождем с устрашающими молниями. Но она боялась лишь грома. Эндерби проснулся в пять утра и нашел ее в своей постели, в грязной полушерстяной сорочке, в страхе прижавшуюся к нему. Вскочил, стошнил в уборной, где потом заперся и читал до рассвета обрывки газеты, валявшиеся на полу.
О ее смерти ему сообщили, когда он служил в армии, в войсках связи в Катании. Она умерла, выпив утром чашку чаю, которую принес отец. От сердечной недостаточности. Узнав новость, Эндерби пошел вечером с женщиной из Катании (банка тушенки и пачка печенья), и к ее почти скрытому смеху ничего не смог сделать. Вернулся в казарму, и там его вырвало.
Да, вот так вот. Мачеха уничтожила для него женщин, маяча за самым благовоспитанным и прелестным фасадом в благородной отрыжке, в ковыряющей в зубах спичке. Он неплохо обходился самостоятельно, запирался в ванной, сам готовил еду (предварительно позаботившись, чтоб жир был чуть теплым), жил на дивиденды, зарабатывал пару фунтов в год стихами. Но с приближением среднего возраста мачеха как бы украдкой все больше и больше вселялась в него. У него стала болеть спина, ныли ноги, выросло аккуратное брюшко, все зубы выпали, появилась отрыжка. Он старался тщательно следить за стиркой, мыть посуду, однако вмешалась поэзия, вознеся его над тревогой по поводу грязи. Диспепсия огорчительно прорезалась все чаще и чаще, трубой трубила сквозь сольное струнное кружево его маленьких произведений.
Производительный акт. Секс. Вот в чем проблема с искусством. Возбуждение от нового образа или рифмы возбуждает неотложное сексуальное желание. Но юность не отказалась от своих способов легкой борьбы с ожирением, нормальной деятельности в ванной. Шагая к «Гербу масонов», он почувствовал, как в желудке поднимаются газы. Брерррп. Чтоб тебя разразило. Впрочем, в целом, с учетом всего, по большому счету, он не слишком заострял на этом внимание, разумно довольный собой. Брррррп. Разрази тебя, будь ты проклято.
Арри, главный повар у «Конвея», стоял у стойки бара «Масонов» с пинтовой кружкой смеси темного и горького эля.
— С Ноом оом, — сказал он Эндерби и протянул длинный окровавленный сверток; кровь запеклась на газетном заголовке насчет какой-то женской крови. — Сказал, принесу и принес.
— Спасибо, — сказал Эндерби, — и вас с Новым годом. Что тут? — Отвернул край газеты с окровавленными «Пропавшими без вести», и на него стеклянным взором взглянула голова матерого зайца.
— Потушить седня моэте, — сказал Арри. Он был в коричневом спортивном пиджаке, вонявшем старым жиром, и в кепке зазывалы. В верхней челюсти всего два клыка. Они служили стояками ворот, между которыми, вроде автомобиля, время от времени проскакивал туда-сюда язык. Приехал он из Олдэма. — С красносмородиным жемом, — продолжал Арри. — Всегда подаю красносмородиный жем на рогаликах искусной формы. Режу пряный хлеб фигурным ножом. Бысро жарю в горячем жире. Да вы один ить живете, наверно трудиться не станете. — Он выпил свой коричневый эль вместе с горьким, получив еще пинту от Эндерби. — Оошо, что зашли, — сказал он. — Мне идти надо. Специальный ленч Ассоциации оптовых торговцев автомобилями с южного побережья. — Опрокинул пинту одним взмахом кружки, еще одну и еще, все это ровно за две минуты. Подобно почти всем поварам, он не мог много есть. Страдал жестокими гастритными болями, за что и полюбился Эндерби. — Пока, — сказал он и ушел. Эндерби нянчил своего зайца.
Этот бар служил прибежищем всех местных лесбиянок старше пятидесяти. Большинство из них испробовало парадигму замужества, несколько разведенных, вдов, брошенных. В углу на стуле женщина по имени Глэдис, крашенная пергидролем еврейка шестидесяти лет, в очках в черепаховой оправе, в джинсах под леопардову шкуру, чаще и энергичней, чем следовало, целовала другую женщину, поздравляя с Новым годом. На той другой женщине с деликатным косоглазием была старая шуба из колючего меха. В стойку бара шумно врезалась тощая женщина с яростным видом в простом ворсистом, как ряса монахини, платье, в накинутой на него шубе из нутрии нараспашку, и тоже ее поздравила долго и липко.
— Пруденс, мой утеночек, — сказала она. Видно, Пруденс пользовалась популярностью. Особое очарование косоглазия. И тут фрагменты нового стихотворения со знакомой уверенностью стали всплывать в голове Эндерби. Он видел форму, слышал слова, чуял ритм. Три станса, каждый начинается с птиц. «Смотри, смотри!»[10] — голубка кричит. Разумеется, так они всегда кричат, всегда именно так кричат. «Так, так!» — подает голос утка. Тоже правильно. Какие еще птицы? Не чайки. Крашеная блондинка еврейка, Глэдис, вдруг хрипло рассмеялась. Есть такая птица. «Берегись, берегись». Грачи, вот кто. Но зачем они кричат, подают голос, предупреждают?
Шариковая ручка у него была, а бумаги не оказалось. Лишь обертка от зайца. Там нашлась длинная пустая колонка для экстренных сообщений с двумя одинокими футбольными результатами сверху. Он записал услышанные строчки. И другие смутно слышавшиеся фрагменты. Смысл? Смысл поэта не занимает. Вдова, тенистая листва. Вдова, кругом луговая трава. Тень, плетень. Голос, очень четкий и тонкий, сказал, как бы ввинчиваясь ему в ухо: «Пей причастие выбора». Глэдис запела попсовую белиберду, сочиненную каким-то тинейджером, часто звучавшую в диско-программах по радио. Пела громко. Эндерби возбужденно крикнул:
— О, ради Христа, заткнитесь!
Глэдис возмутилась.
— Кто ты такой, черт возьми, чтоб велеть мне заткнуться? — угрожающе крикнула она в ответ.
— Я стих стараюсь написать, — пояснил Эндерби.
— Этот паб, — сказал кто-то, — считается респектабельным.
Эндерби прикончил виски и вышел.
Быстро идя домой, попытался вернуть ритм, но он ушел. Фрагменты больше не были живыми членами какого-то мистического тела, обещавшего явиться в целости. Мертвая, как заяц, бессмысленная ономатопоэйя; глупый звон: вдова, трава, тень, плетень. Громкие ритмы набегавшей приливной волны, морской зимний ветер, меланхоличные чайки. Порыв ветра сотряс и развеял возникавшую форму стиха. Ну что ж. Из миллиона манивших, подобно девушкам-кокеткам, из кустов стихов очень немногие можно поймать!
Приближаясь к дому № 81 на Фицгерберт-авеню, Эндерби содрал с зайца окровавленную бумагу. К фонарному столбу почти перед парадной лестницей его дома была приделана мусорная корзинка общего пользования. Бросил туда скомканное месиво новостей, крови, зачатков поэзии и вытащил ключ. Чистенький городок. Не позволяет нам снизить стандарты, хоть тут и не бывает приезжих отпускников. Пошел на кухню, принялся свежевать кролика. Получится, думал он, похлебка с морковкой, картошкой и луком, приправленная перцем, солью с сельдереем; плеснем туда остатки рождественского красного вина, прежде чем ставить на стол; еды хватит почти на неделю. Внутренности шлепнул в миску, нарезал тушку, потом открыл кран. Руки палача, думал он, глядя на руки. До локтей в крови. Попробовал изобразить ухмылку убийцы, держа жертвенный нож, воображая зеркало над кухонной раковиной.
Из крана потекла вода, бросив слабую тень — неподвижную тень — на тумбу. Пришла строчка, рефрен: «кран текущий бросает статичную тень». Вот оно, узнал он, возбуждение, вновь поднимается. Вдова, тень, плетень. Выпалился весь станс целиком:
«Так! Так!» — подает голос утка.
Наслаждайся вдовой, повали под плетень,
Пей причастие выбора, голос рассудка.
Кран текущий бросает статичную тень.
К черту смысл. Куда к дьяволу подевались другие птицы? Кто они? Кукушки? Чайки? Как зовут косоглазую сучку, лесбиянку из «Герба масонов»? С ножом в руке, по локти в крови, он выскочил из квартиры, из дома, к мусорной корзинке, приделанной к фонарному столбу. Были там другие люди, пока он копался, шарил, выхватывал. Коробка из-под «Черной магии», пачка от «Сениор Сервис», банановая кожура. Все это яростно швырялось в сточную канаву. Нашлась оскверненная бумага, куда был завернут зверек. Эндерби лихорадочно просматривал скомканные страницы. ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЭТОТ МУЖЧИНА СПОСОБЕН НА УБИЙСТВО. ЭТОТ ПАРЕНЬ ЗАСЛУЖИЛ ЛЮБОВЬ. Почти все снижают кислотность с помощью «Ренни». Омерзительное чтение. Прочел: «Вызывающая боли кислотность нейтрализуется, и у вас возникает восхитительное ощущение отступающей боли. Ингредиенты, снижающие кислотность, поступают в желудок постепенно, мягко — капля за каплей…»
— Что это? Что происходит? — спросил официальный голос.
— А? — Оказалось, неизбежный закон. — Ищу чертовых птиц, — пояснил Эндерби, вновь принимаясь копаться. — Ах, слава богу. Вот они. Пруденс, голубка. Грачи, предупреждение. Отлично записано. Вот. — И сунул вытащенные листки в руки полисмену.
— Не так шустро, — предупредил полисмен, яблочно-румяный молодой человек. Из деревенской глубинки, очень высокий. — Зачем тут нож, откуда столько крови?
— Я мачеху свою убил, — объявил Эндерби, занятый сочинением. «Смотри, смотри!» — голубка кричит. И побежал в дом. С верхнего этажа как раз спускалась женщина. Увидела нож, кровь, завизжала. Эндерби заскочил к себе в квартиру, бросился в ванную, пнул обогреватель, сел на низкий стульчак. Автоматически снова встал, спустил штаны. Потом, весь в крови, стал писать. Кто-то постучал — властно, императивно — в парадную дверь. Он запер дверь ванной, занялся писаньем. Вскоре стук прекратился. Через полчаса весь стих был написан на бумаге.
«Смотри! Смотри!» — голубка кричит.
Скорпион затаился в траве в позолоченный день.
В островной стене глаз торчит.
Кран текущий бросает статичную тень.
«Берегись! Берегись!» — восклицают грачи.
Скорбящая вдова проводила любимого в вечную сень
И поджидает тебя в огне ночи.
Кран текущий бросает статичную тень.
Указание последнего станса казалось вполне ясным, вполне интимным. Неужели, раздумывал он, можно действительно ему последовать, сделав этот год отличным от всех прочих?
«Так! Так!» — подает голос утка.
Наслаждайся вдовой, повали под плетень,
Пей причастие выбора, голос рассудка…
Тут Эндерби услышал, что на кухне все так же потопом льется вода. Забыл закрыть кран. Так и бросает статичную тень. Встал, автоматически дернул цепочку. Про какую это чертову вдову говорится в стихе?
Пока Эндерби завтракал разогретой похлебкой из зайца с маринованными лесными орешками и мачехиным чаем, пришел почтальон с судьбоносным письмом. Конверт плотный, роскошный, кремовый; витиеватый, очень черно напечатанный адрес, словно именно для этого священного наименования нарочно вставили новую ленту. На листке бумаги для заметок тисненые гербы прославленной разветвленной фирмы книготорговцев. Письмо поздравляло Эндерби с прошлогодним томиком «Революционных сонетов» и с чрезмерной радостью объявляло о присуждении ему ежегодной Поэтической премии фирмы: золотая медаль и пятьдесят гиней. Эндерби от всей души приглашали на специально устроенный ленч, имеющий быть в банкетном зале устрашающего лондонского отеля, получить там награды под аплодисменты литературного мира. Эндерби оставил остывать похлебку из зайца. В третий вторник января. Просим ответить. У него голова пошла кругом. Еще раз поздравляем. Лондон. Само это название вызвало те же реакции, что рак легких, банковский кредит исчерпан, мачеха.
Он не поедет, не сможет поехать, костюма нет. В данный момент он в пижаме, в очках, с дневной щетиной, в свитере-поло, в спортивной куртке, в очень старых мокасинах. В платяном шкафу пара фланелевых брюк, жилет муарового шелка. Этого, думал он, обживаясь после демобилизации, вполне достаточно для поэта; жилет муарового шелка представлял собой даже, пожалуй, излишнюю роскошь, некий экстравагантный каприз биржевого брокера. Он его приобрел по ошибке, застигнутый молотком аукциониста на ставке в пять шиллингов.
Лондон. Город, наводненный жуткими образами; одни пришли из личного опыта, а другие из книг. В конце войны, отыскивая на кладбище в Сохо могилу Уильяма Хэзлита[11], он подвергся насилию со стороны констебля и очутился на Боу-стрит[12] под обвинением в сознательном бродяжничестве. Поскользнулся однажды на грязном тротуаре у «Фойлза»[13], и мужчина, который помог ему встать, — пожилой, плотный, с седыми жесткими волосами, — выпросил у него пять шиллингов: маленько поправиться, хозяин, мы эту неделю бастуем. Как раз перед этим был куплен жилет муарового шелка: десять шиллингов выброшены на помойку. В писсуаре очень убогого паба Эндерби, не веря своим ушам, получил приглашение на вечеринку с феллацией от симпатичного незнакомца в красивом городском костюме. Мужчина обнаглел после вежливого отказа, пригрозил закричать, объявить, будто Эндерби на него напал. Очень неприятно. Наряду с прочими воспоминаниями, от которых он морщился (включая мучительное про бумажку в десять шиллингов в «Кафе-Рояль»), выскакивали привидения из «Оливера Твиста», «Бесплодной земли», «1984»[14]. Лондон чрезмерно большой, беспричинно враждебный, место пустой траты денег, заразных болезней. Эндерби содрогнулся, думая о «Дневнике чумного года» Дефо. И вновь оказался, — выложив остывшую тарелку обратно в кастрюлю, — со своей мачехой. В пятнадцатилетием возрасте он купил в двухпенсовом ларьке на рынке изданную в 1605 году книжечку дуодецимо[15] с рецептами, сплетнями, поучениями. Мачеха, зная цифры, завопила, увидев ее, гордо принесенную домой. 1605 — «былые времена», которые означают Генриха VIII, топор палача, Великую чуму. Она сунула книжку в языки огня в печке на кухне, визжа, что та наверняка кишит смертельными червями. Ограниченное, хоть и живое чувство истории.
История и служила причиной, по которой она никогда не ездила в Лондон. Видела, как над ним царствует Кровавый Тауэр, Флит-стрит кишит демонами-брадобреями[16], кругом не менее опасные эскалаторы. Открыв теперь кран с горячей водой, Эндерби видел, что водонагреватель «Аскот» не пылает, как надо бы, вроде ложа страданий. Счетчик требовал шиллинга, а он поленился пойти поискать. Вымыл суповую тарелку и кружку в холодной воде, вспомнив, как ловко это выходило у мачехи (ножи, вилки, сплошь в масле, подобно оружию). Она была очень ленивой, очень глупой, очень суеверной. Он решил, вытирая тарелки, что, в конце концов, в Лондон поедет. В конце концов, не так далеко — всего час электричкой, — не возникнет необходимости проводить ночь в отеле. Наверно, действительно честь. Костюм у кого-нибудь позаимствует. Наверняка есть у Арри. Размер почти одинаковый.
Вздохнув, Эндерби пошел в ванную браться за работу. С сомнением заглянул в ванну, полную записей, черновиков, чистых экземпляров, еще не размещенных в очередном томе; книг, чернильных бутылочек, сигаретных пачек, кусочков закуски во время писания. А еще под детритом жили несколько мышей, поощряемых Эндерби к деловому копанью в отбросах. Время от времени одна из них выскакивала, балансировала на краю ванны, наблюдая за поэтом с пером в руке, уставившимся в потолок. От него они никогда не прятались, никогда не робели (он позабыл смысл слова «скрадчивость»). Эндерби сознавал, что приближавшееся событие требует ванны. Омовение перед сакраментальным принятием пищи. Он однажды вычитал в неком женском журнале мрачную апофегму, которую не забывал: «Дважды в день принимай ванну, чтобы быть поистине чистым, раз в день — сносно чистым, раз в неделю — чтобы не представлять угрозу обществу». С другой стороны, Фридрих Великий ни разу в жизни не мылся; труп его имел богатый цвет красного дерева. Взгляд Эндерби на мытье в ванне не отличался ни одержимостью, ни беззаботностью. (Дворец Фридриха назывался «Сан-Суси»[17], да?) В подобных вопросах он был эмпириком. Признавая, что через неделю-другую в ванне, видно, возникнет необходимость, ужасался перспективе подготовки ванны, изгнанья мышей. Он пойдет на компромисс. Очень тщательно вымоется целиком над раковиной. Больше того, побреется с чрезвычайной тщательностью, волосы подстрижет маникюрными ножницами.
Эндерби мрачно припомнил, что большинство современных поэтов не просто достаточно чистые, но положительно опрятные. Все это начал Т.С. Элиот со своей чепухой в банке Ллойда[18]; настоящее предательство клерков. До него, предпочитал думать Эндерби, чистота и опрятность касались лишь журнальных авторов баллад и триолетов. Тем не менее он им покажет, явившись за золотой медалью; побьет на их собственном поле. Снова вздохнув, водрузился с голыми ногами на поэтическое седалище. Первым делом составить письмо с благодарностью и согласием. Проза — не его métier[19].
Скомкав и выбросив несколько помпезных проектов в мусорную корзинку, на которой сидел, Эндерби мигом составил письмо в катренах «In Memoriam»[20], замаскированных под прозу. «Благодарность за премию, хоть и преисполненная смирения, исходит, однако, не от меня, а от моей Музы и Господа Бога…» И прервался, когда в памяти вынырнула причудливая аналогия. Во времена послевоенной нехватки продуктов он заказал в одном лондонском ресторане пирог с крольчатиной. Поданный пирог не содержал ничего, кроме куриной грудки. Тайна так никогда и не разрешилась. Отбросив эти мысли, он продолжил маскировать куриную грудку стихов под крольчатину прозы. Мышка, подняв передние лапки на манер кенгуру, вылезла понаблюдать.
Эндерби отыскал Арри в белом в подземельной кухне с пенившимся позади него коричневым элем, нарезавшим свинину ломтиками толщиной в лезвие ножа. Жеребец в хаки, похожий на идиота, швырял на тарелки пригоршни капусты. Промахнувшись, он тщательно собирал ее с пола и делал очередную попытку. Массивные говяжьи бока жизнерадостно доставлялись со Смитфилда[21] — жирное золотое руно, плоть оттенка разбавленного имперского бургундского. Эндерби сказал:
— Я в Лондон должен ехать, получать золотую медаль и пятьдесят гиней. А у меня нет костюма.
— С такими деньгами, — заметил Арри, — моэте хороший купить. — Вид у него был не сильно радостный; он хмурился на свою непосредственную задачу, как хирург, спасающий жизнь злого врага. — Вот, — сказал он, поднимая на вилке к свету просвечивающий кусок, — тоньше вроде не нареэшь, будь я проклят.
— Но, — сказал Эндерби, — я смысла не вижу в покупке костюма просто для этого случая. Может, я никогда больше его не надену. Или долго не надену. Поэтому хотелось бы позаимствовать один из ваших.
Арри ничего не ответил. Вопросительно разглядывал ломтик на вилке, кивнул, будто ответил на вызов, одержав победу. Потом вновь взялся резать.
— Праильно думаете, — признал он, — у меня не один. Я все время для людей что-то делаю, правда? А что для меня хоть одна сволочь сделала? — На мгновение взглянул на Эндерби, язык мелькнул между стояками ворот, как бы с целью слизнуть слезу.
— Ну, — сказал расстроенный Эндерби, — вы же знаете, можете на меня положиться. То есть в том, что я смогу сделать. Да у меня только один талант, от которого вам мало толку. И похоже, — добавил он в приливе жалости к себе, — всем прочим тоже. Кроме приблизительно сотни людей тут и в Америке. И одной сумасшедшей поклонницы из Кейптауна. Знаете, она пишет раз в год, предлагает жениться.
— Поклонницы, — повторил резавший Арри, с легкостью прибегая к множественному числу. — Поклонницы, да? Вот чего у меня нету. Это я ее поклонник, вот де проблема, черт побери. Дело все поганей становится, вот как. — И в волнении перешел на диалект полностью. — Шамовку с ей попытал, — сказал он. А потом, когда нижний слой пахну́л на него холодом, добавил: — Волован де диндон в распроклятом буфете.
— Кто? — спросил Эндерби. — Когда?
— Наверху, — пояснил Арри. — Тельма, в коктейль-баре слуит. Точно стало известно, увольняется в конце месяца. Кто чертовски хорошенькая, кто чертовски злющая, — сказал он, методично нарезая мясо. — Кто чертовски обалденная, — сказал он.
— Не знаю, — признал Эндерби.
— Чего не знаете?
— Кто чертовски обалденная.
— Кто-кто, — сказал Арри, ткнув ножом в потолок. — Кто сверху. Та самая Тельма.
Тут Эндерби вспомнил, что два англосаксонских местоимения женского рода в Ланкашире сосуществуют. И сказал:
— Ну почему не пойдете к ней, не завоюете? Только несколько зубов сперва вставьте, дело будет верней. Популярный предрассудок склоняется в пользу зубов, верней будет.
— Чего вы свиней приплели? — сказал Арри. — Я не ем ничего. Свиней едят. Я влюблен, вот де чертова проблема, чего тут свиней приплетать?
— Женщинам зубы нравится видеть, — объяснил Эндерби. — Ценность больше эстетическая, чем функциональная. Влюблены, да? Ну-ну. Любовь. Давно я не слышал, что кто-то влюблен.
— Нынче любой обормот влюблен, — возразил Арри, покончив с резкой. И хлебнул коричневого эля. — По радио все время поют. Я над ими смеялся. А теперь сам влип. Любов. Воще лишние хлопоты при такой занятости в нынешнее время года. Фирменные ленчи, обеды до конца февраля. Нету худше для этого времени.
— Насчет костюма, — напомнил Эндерби. Взглянул на объемистую оплетенную бутыль с маринованным луком, и кишки внутри начали размягчаться. Ему хотелось умереть.
— Моэте для меня кое-что сделать, — сказал Арри, — если я для вас кое-что сделаю. — Посмаковав последнее местоимение, решил, что при такой откровенности, при заготовленной просьбе, необходимо интимно перейти на «ты». — Кое-что сделаю для тебя, — поправился он. — Дам тот самый костюм, если ты от меня ей напишешь, вот как, стих напишешь, и всякую хренотень. Я ей все посылаю особые вещи, особо приготовленные, только это как бы не романтишно. Я кода еще ел, больше всего любил хорошую миску рубца в молоке. Она взад отсылает нетронутый. Змеюка подколодная. Пускай лучше шлет взад сладкое любовное письмо или горький стих. Тут ты в дело вступаешь, — продолжал Арри, высовывая змееподобный язык. — Серый есть, синий, коришневый, желтоватый и твидовый в елочку. Любой поалуста. Напиши, подпиши «Арри», дай мне, я ей вверх переправлю.
— Как пишется Арри? — уточнил Эндерби.
— С «ха», — сказал Арри. — Два в неделю, и дело будет сделано, черт побери. Ты за пару минут напишешь, как бабам нравится. С твоими поклонницами, чтоб их разразило, — сказал он.
Перед возвращеньем в квартиру Эндерби воспользовался — долго, обильно, болезненно — мужской уборной на первом этаже отеля. Потом, дрожа, зашел в коктейль-бар хлебнуть виски и взглянуть на Тельму. Не годится выкапывать старые стихи, писать новые, воспевая светлые волосы и зубы — лепестки маргаритки, если она вдруг окажется черноволосой, седой, практически беззубой. Бар нынче, видно, был полон торговцами автомобилями, которые болтали, притворно любезничали, ха-ха-ха, прибегая к непристойному пилотскому сленгу, с вполне представительной барменшей около сорока. Все передние зубы на месте, волосы черные, взгляд презрительный, в ушах тоненько звякали кольца — связки крошечных монет, — нос картошкой, уютный круглый подбородок. Грудь великолепная, эффектно вздернутая. Она как бы служила хранилищем древней мудрости бара, эпиграмм, убойных фраз из радиопостановок. Автомобильный торговец угостил ее «Гиннессом», и она произнесла тост:
— Живите вечно, и пускай я вас похороню. — Потом, прежде чем выпить, сказала: — Проехало между зубами и челюстями; берегись, желудок, сейчас обольет. — И сделала добрый глоток. Маленькую стойку бара она украсила выжженными максимами: «Смейся, и мир посмеется с тобой; захрапи, и будешь спать один». «Вода — славный напиток, если принимать с хорошим спиртным». «Утонув по горлышко в кипятке, бери пример с котла — пой». А еще куплет в стиле Браунинга (пусть не по форме, но по содержанию) над бутылками с джином:
Когда последний великий Судья явится очки считать,
не объявит, ты выиграл или нет, а посмотрит, умел ли играть.
Эндерби усомнился, сумеет ли написать для нее что-либо столь же гномически краткое. Хотя и не надо, ибо любовь по сути своей неточна и расплывчата. Он выпил виски и ушел.
Эндерби относился к любовной поэзии бесстрастно, безлично, профессионально. Он всегда считал наиболее искренними наихудшие любовные стихи: трепещущие чувства влюбленного — слишком личные, испытываемые к чересчур специфическому объекту, — слишком часто встают на пути идеальности, универсальности. Любовное стихотворение должно адресоваться к некой идее возлюбленной. Идеальную грудь, идеальный запах подмышек, идеальное неудовлетворяющее соитие способен видеть платонизм да интеллектуальные, с гладким челом, духи старых авторов сонетов. Вернувшись в свою ванную, Эндерби покопался в поисках фрагментов и набросков, которые дали бы начало циклу «Арри к Тельме». И обнаружил обгрызенное мышами:
Я ищу аромат и в твоих волосах обретаю;
Жажду света — он в твоих очах.
В каждом слове дыханье твое, дорогая;
Твоя поступь в любых шагах.
Похоже на первый катрен шекспировского сонета. Конечно, не пойдет; в мире Тельмы напряженный ритм, глухие рифмы ошеломят технической некомпетентностью. Нашел еще:
Ты здесь, и ничего не сказано,
Слова льют через край, в воздухе зависают.
Но я услышал вдруг в короткое мгновенье
Вечности, в каком-то лихорадочном безумье,
Захлопавшие дико крылья школьного закона;
Стабильное соотношение столов, деревьев и войны
Тобою продиктовано, — ведь ты их вечный двигатель.
А знал я лишь одно: ты в самом деле тут.
Он не помнил, чтоб это писал. В связи с упоминанием о войне стихи укладывались в шестилетнюю давность. Где они были написаны? Наверно, в каком-то городе с проспектами, с уличными столиками для выпивающих. Кому адресованы? Не валяй дурака, черт возьми, разумеется, никому; чисто идеальные чувства. Он еще покопался, глубоко запустив в ванну руки. Мышь шмыгнула в свой вечный дом, в дырку. Отыскался бесценный юношеский кусочек:
Вся ты СПЛОШЬ
Как граненый кристалл,
Руки — сталь
Под серебряным шелком.
В волосах твоих урожай снопов,
Сжатых летом.
Разметалась во сне,
Как пловчиха в реке…
Потом размытая слеза. Видно, порой его здорово пробирало. В ванне не нашлось ничего пригодного для Тельмы, даже для идеальной Тельмы. Надо сочинить что-то новое. Обнажив для поэтического акта нижнюю часть тела, он сел на седалище и взялся за работу. Вот истинная проблема: перекинуть мост через пропасть, создать то, что не показалось бы эксцентричным реципиенту и одновременно не совсем расстроило автора. Через час вышло следующее:
Твой образ светится в жирной плошке,
Сияет из дверцы духовки.
Гладкий гладкостью кухонной кошки,
Твой образ во время готовки
Придаст благородство картофельной шелухе,
Крошкам хлеба, простой кочерыжечной чепухе.
«Люблю!» — кричат сбитые яйца; «Люблю!» —
На рашпере шипит свинина.
Свекла пылает любовью.
В каждом листке салата, который я рублю,
Внутри спрятана сердцевина —
Зеленый росток любви. Пудинг и пирог
Нафаршированы плотно любовью,
перед которой и я устоять не смог.
Но после двух этих мучительно давшихся стансов выяснилось, что трудно остановиться. Его, ужасавшегося нараставшей легкости, безжалостно вело к истинной логорее. В конце оды он опустошил кухню Арри и густо исписал десять страниц. Одно, думал Эндерби, обозначено очень четко: Арри влюблен.
День ленча в Лондоне. Трепещущий Эндерби рано вывалился из постели, увидел сквозь утренний сумрак, что начался снег. Дрожа, включил каждый электрический обогреватель в квартире, потом заварил чай. Снег слепо глазел на него во все окна, поэтому он опустил шторы, превратив сырое утро в уютный, сдобный вечер, тостером поджаривающий ступни. Побрился. Позапозавчера весьма тщательно мылся. Он почти забыл ощущение от бритья новым лезвием, уже почти целый год пользуясь старыми, сложенными стопочкой предыдущим жильцом на шкафчике в ванной. Порезал в то утро щеки, подбородок под нижней губой и адамово яблоко: мыльная пена стала детским мороженым, сбрызнутым клубничным уксусом. Эндерби отыскал старый стих, начинавшийся так: «И если он сделает что обещал», — разорвал на кусочки, остановил течь. Принялся одеваться, натянул новые носки, купленные на январской распродаже, глубоко засунул туда обшлага пижамных штанов. У него была специально выстиранная белая рубашка, нашелся галстук в полоску — зеленый лимон с горчицей, — в чемодане с фамилией ПАДМОР, написанной маркировочными чернилами на белой тряпочке, пришитой к подкладке (кто такой, или кем был, или кем был бы в неосуществившемся будущем Падмор?), тщательно вычищенные коричневые башмаки. Вдобавок припасены два чистых носовых платка, сморкаться и красоваться. Костюм от Арри трезво-серый, самый итонский из всего его гардероба.
Эндерби приятно изумила достойная серьезность кланявшейся в зеркале платяного шкафа фигуры. Городской, респектабельный, образованный — поэт-банкир, поэт-издатель; зубы в свете электрокамина сверкают двумя двойными октавами, очки упиваются сияньем лампы у кровати. Удовлетворенный, отправился запастись завтраком — сегодня особенный завтрак: бог весть, чем будет приправлена жуткая пакость, хладнокровно предложенная в гигантском отеле. Эндерби купил корнуольский пирог, но, выйдя из магазина, поскользнулся на ледышке. Больно ушибся, расплющил пирог, что, впрочем, на его съедобности вряд ли отразилось. Он будет съеден с брэнстонскими пикулями и запит, в качестве экстраординарного угощения, кофе «Блу маунтин». Готовя в дорогу припасы, Эндерби чувствовал нежеланную экзальтацию, словно — после многолетней борьбы — наконец добивался успеха. Что купить на премиальные? Не удавалось придумать. Книги? С чтеньем покончено. Одежду? Ха-ха. Фактически, он ни в чем не нуждается, кроме добавочного таланта. Ни в чем на свете.
Кофе оказался огорчительно теплым и слабым. Может, заварен неправильно. Можно этому научиться? Кто таким вещам учит? Арри. Разумеется, надо Арри спросить. В девять пятнадцать (поезд в девять пятьдесят, до станции десять минут ходьбы) он сидел в ожидании с сигаретой, загипнотизированный кроваво-золотистой киноварью электрического камина. И внезапно поймал, как блоху, другое воспоминание. Далекое детство. Рождество 1924 года. Днем шел снег, преобразив трущобную улицу, где стоял магазин. Ему подарили волшебный фонарь, и он должен был после обеда проецировать слайды диких животных на стену в гостиной. В питавшийся свечой фонарь была вставлена свечка — новая, горевшая слишком высоко над линзами. Дядя Джимми, водопроводчик, сказал: «Обождать надо, пока догорит. Сыграй-ка нам, Фред». Фред, отец Эндерби, сел за пианино и начал играть. Прочие смутно помнившиеся собравшиеся — ярко в памяти только вовсю рыгавшая мачеха — ждали, пока свеча догорит до уровня линз и на стене внезапно появятся разноцветные звери.
Почему, гадал теперь Эндерби, почему никто не догадался подрезать свечу? Почему все и каждый согласен был дожидаться свечной соразмерности? Другая тайна; но он сейчас задумался, действительно ли это тайна иного порядка, чем нынешнее ожидание, — ожидание, пока шекспировская свеча времени догорит до момента, когда придет пора тепло одеваться, до момента ухода на станцию. Эндерби вдруг страстно пожелал до конца срезать длинную свечку — написать все стихи и разделаться. Потом ухмыльнулся над своим желудком, тайно спровоцировавшим подобную меланхолию и заунывно присоединившимся к ней.
Пфффрррп. А потом трррррр. Впрочем, это, понял он, пережив изумление, что желудок добился такой металлической эктофонии, — это, услыхал он с досадой, дверной звонок. Кто б то ни был, чересчур рано и слишком не вовремя. Эндерби пошел к дверям квартиры и увидел вразвалку шагавшую по коридору собственно дома свою домовладелицу, миссис Мелдрам. Так. Он ей платит по почте. Чем реже ее видит, тем лучше.
— Если можно вас, мистер Эндерби, на минуточку побеспокоить, — сказала она, шестидесятилетняя женщина со сдавленными средневосточными гласными. Лицо вылеплено с усталого, но веселого полумесяца на рекламе молочно-солодового питья в постели, которую даже Эндерби часто видел: нос Панча[22] встречается с подбородком-серпом, однако при абсолютном отсутствии радостной пухлости Панча. Полный набор зубов от Тенниела цвета кусочков грязного льда демонстрировался в данный момент Эндерби, словно зеркалу.
— Мне в город надо идти, — с легким трепетом сказал Эндерби, занятой, деловой человек.
— Я задержу вас не больше минуты, — сказала миссис Мелдрам, — мистер Эндерби. — И вразвалку протопала мимо него, будто в собственную квартиру, каковой та в действительности и была. — Пора, собственно, вытащить шиллинги из счетчика за электричество, — объявила она, — с одной стороны, затем я и пришла. А с другой стороны, насчет жалоб. — И вперед Эндерби прошла в гостиную. Мельком оглядела остатки завтрака на столе, комично покачав головой, взяла баночку с пикулями, прочитала на этикетке, как бормочущий мессу священник: — Сахар цветная капуста лук солод уксус томаты морковь спирт уксус огурцы дата изготовления соль костный мозг…
— Каких жалоб? — спросил Эндерби, как и ожидалось.
— Канун Нового года, — начала миссис Мелдрам, — особый случай для веселья, тем не менее миссис Бейтс снизу из подвала пожаловалась на громкое пение, когда не могла заснуть из-за болей в спине. Говорит, ваше имя там часто звучало, особенно в самых непристойных песнях. На Новый год видели, как вы бегали туда-сюда по улице с ножом, весь в крови. Ну, мистер Эндерби, веселье, как говорится, весельем, однако, надо признаться, я удивлена, мужчина в вашем возрасте. Полиция тихонько перемолвилась словечком с мистером Мелдрамом без моего ведома, я только вчера вечером у него это выудила, он боялся, скрывал, не хотел неприятностей. Так или иначе, мы об этом поговорили, и больше так продолжаться не может, мистер Эндерби.
— Могу объяснить, — предложил Эндерби, поглядывая на часы. — Фактически все очень просто.
— Раз уж мы затронули тему, — продолжала миссис Мелдрам, — милая юная пара сверху. Говорят, что порой слышат вас по ночам.
— Я их тоже слышу, — сообщил Эндерби, — никакая не милая юная пара.
— Ну, — сказала миссис Мелдрам, — это как посмотреть, правда? Можно сказать, кто сам чист, для того и все прочее чисто.
— К чему вы клоните, миссис Мелдрам? — Эндерби снова взглянул на часы. За последние тридцать секунд прошло, как минимум, пять минут.
— Очень многим понравилась бы такая славная квартирка, мистер Эндерби, — сказала миссис Мелдрам. — Район респектабельный, да. Кругом учителя на пенсии, отставные капитаны индустрии. И я бы не сказала, что вы ее содержите в чистоте и порядке.
— Это мое дело, миссис Мелдрам.
— Ну, мистер Эндерби, дело, может быть, ваше, а может, и нет. В этом году плату все повышают, как вам, должно быть, отлично известно. Цены растут, всем нам надо свои интересы блюсти.
— А, понятно, — понял Эндерби. — Вот в чем дело, да? Сколько?
— Вы платите очень разумную цену, — сказала миссис Мелдрам, — никто не станет отрицать. Квартира вам обходится круглый год в четыре гинеи в неделю. Один джентльмен, что работает в Лондоне, очень хочет найти респектабельное жилье. Очень разумно спросить с него шесть гиней.
— Ну, для меня не очень разумная плата, миссис Мелдрам, — рассердился Эндерби. Его наручные часы резво скакали вперед. — Мне уже надо идти, — сказал он. — На поезд успеть. В самом деле, — ошеломленно спохватился он, — вы понимаете, что в месяц будет на восемь гиней больше? Где я деньги возьму?
— Один джентльмен с независимым доходом, — чопорно напомнила миссис Мелдрам. — Не желаете оставаться, мистер Эндерби, всегда можете предупредить за неделю.
Эндерби с ужасом прозрел перспективу сортировки полной ванны рукописей.
— Мне сейчас надо идти, — сказал он. — Я вас извещу. Но считаю это грабежом.
Миссис Мелдрам не шелохнулась.
— Идите тогда, не опоздайте на поезд, — сказала она, — подумайте об этом в вагоне первого класса. А я вытащу из счетчика шиллинги, как и следует время от времени. На вашем месте я бы перед отъездом вот эти тарелки поставила в раковину.
— Не трогайте мои бумаги, — предупредил Эндерби. — Там, в ванной, личные конфиденциальные документы. Тронете — себе на погибель.
— Ну уж, на погибель, — усмехнулась миссис Мелдрам. — Мне вообще это все не по вкусу, в моей ванной континентальные документы. — Эндерби тем временем закутался в кашне и стал продвигаться — как к свету — к пальто. — Факт, никогда ничего подобного не слыхала, — продолжала миссис Мелдрам, — хотя в деле довольно давно. Говорят, кое-кто в трущобах уголь держит в ванне, хотя, благодарение Богу Всевышнему, я таких в лоно своей семьи никогда не пускала. Что, мистер Эндерби, вы вот так и пойдете, с лицом, сплошь залепленным кусочками бумаги? Вон там, прямо под носом, слово можно прочесть: эпилептический, что-то вроде того. Ничего хорошего ни для вас, мистер Эндерби, ни для меня, ни для прочих жильцов выходить в таком виде. Вот уж именно, на погибель.
Эндерби с дрожью вылетел, одержимый сомненьями. Он никак не предвидел необходимости искать новое жилище, тем паче посреди «Ручного Зверя». Город все сильней и сильней превращается в спальный район для бесцветных молодых людей из Лондона. В одном пабе он встретил главу фирмы кинохроники, щедрого любителя джина, говорившего легко и быстро. А еще где-то слышал начальственный голос, похожий на плавленый сыр, бесстыжий, громкий. Лондон ползет на юг, к Каналу.
Эндерби полз на север, к вокзалу, собирая с бритвенных порезов разрозненные слова. Снег уже был утоптан людьми, с неискренней готовностью раньше спешившими в Лондон на службу. Он топал крошечными гавотными шажками, боясь поскользнуться; поясница до сих пор болела от падения вчера вечером. Рабочие поезда, стенографические поезда, начальственные поезда. Крупные сделки по телефону, пятьдесят гиней для них ничто. Но, думал Эндерби, они на полгода покроют повышение квартирной платы.
Поглядывая вверх на цинковое небо, увидал пару чаек, прохлопавших дальше в глубь твердой земли. Он уже два дня пренебрегает кормлением чаек; становится безответственным. Может быть, смутно подумалось, с ними можно помириться, купив специальное угощение в военно-морском магазине. Миновал квартал ярких плакатов. Один из них расхваливал домашний газ: улыбающийся игрушечный параклит по имени мистер Терм восседал над каким-то согревшимся Святым Семейством. Троичный терм, троичный сперм. Двое мужчин в выгоревших армейских шинелях с деморализованными физиономиями убийц промаршировали от станции, словно при отступлении. Один сказал другому:
— Никак, черт возьми, не решит. День дождь, день снег. Нынче снова опорожняется.
Задохнувшийся Эндерби был вынужден остановиться, сердце изо всех сил колбасило, словно он только что выхлестал полбутылки бренди; левой рукой для опоры вцепился в куст бирючины со снежной шапкой. Троичная сперма опорожняется. Нет, нет, нет. С шипеньем низводится. Строчка выскочила, как чек из кассы. Вдруг возник образ стихотворения целиком в виде злого приземистого механизма, взвешивающего, выжидающего. Дева Мария, Святое Семейство, троичная сперма. Он услышал свисток поезда, пришлось поторопиться.
Задыхаясь, вошел в маленький кассовый зал, выкопал с правой груди бумажник. Возле кассы еще стояла рождественская елка. Неправильно: двенадцатая ночь прошла, день святого Дистафа опять закрутил трудовой год. Эндерби подошел к злючке с короткими рукавами в окошечке guichet[23].
— Пожалуйста, до Лондона и обратно, — попросил он. Взял билет, сдачу, уронил на пол шиллинг.
— Не потеряйте, мистер, — сказала живая старушка в черном. — Пригодится за газ заплатить. — Посмеялась, кряхтя, пока Эндерби гнался к барьеру за сверкающим колесиком. Билетный контролер прихлопнул его тяжелым ботинком, поймал.
— Спасибо, — поблагодарил Эндерби. Подобрав, разогнувшись с туманом в глазах, очень четко увидел голубую картину: Дева Мария за крутящимся колесом прялки, серебряная Царица в младенческой голубизне. Ничего общего с «Ручным Зверем», с его Марией-Пасифаей. Как-то связано с мачехой.
В прялку лона троичная сперма с шипеньем низводится
И к обычному слову сводится.
Нет, ритм неправильный, там нет двустиший. Двустишия из речей королевы о голубе в «Гамлете». Голубь, прорубь. Эндерби скатился по ступенькам, взобрался по ступенькам на железнодорожную платформу. Поезд как раз прибывал. Королева. Где-то есть рифма — Ева. Эндерби сел в поезд. Пассажиров в такой час было мало — женщины отправлялись в бой на январские распродажи, полицейский инспектор ученого вида с портфелем, двое мужчин, весьма — рассеянно думал Эндерби — похожих на него самого, нормальные, щеголеватые, городские. Голубка от голубя, голубь — параклит. Голубь на древе жизни. Древо, Ева, дева, плева.
— Простите? — переспросила женщина, сидевшая по диагонали напротив Эндерби. Они были вдвоем в купе. Худая блондинка, чисто вымытая, сорокалетняя, модная, в норковой накидке и в шляпке-гнезде.
— Чрево, — сказал горожанин Эндерби. — Рева. Корова. — Поезд запыхтел на северо-восток, страстно влекомый к Лондону; сперма, которую поглотит его огромное чрево. — Поглощается, — громко и вдохновенно объявил Эндерби, — гигантским чревом Евы. Так я и знал, где-нибудь будет Ева. — Женщина схватила свою сумочку размером ин-фолио, серебристо-серое двустишие перчаток и выскочила из купе. — Ева ушла, — констатировал Эндерби. Где бумага? Нету. Не ожидалось рабочего дня. Ручка с чернилами есть. Он поднялся и вышел за женщиной в коридор. Она взвизгнула, словно котенок, шмыгнула в следующее купе, содержавшее троицу беседовавших и кивавших жен, однообразно одетых для битвы на распродажах. Эндерби, почтовый голубь, прошел прямо в уборную.
В прялку лона троичная сперма с шипеньем низводится,
Поглощается гигантским чревом Евы
И к обычному слову сводится.
Полностью одетый Эндерби сидел на седалище унитаза, покачиваясь, как на отцовском колене, продвигаясь верхом на палочке к Чаринг-Кросс. Нет, к Лондонскому мосту. Нет, к Виктории[24]. Электрический сперматозоид, оседланный Эндерби, мчится к Победоносной Заступнице Виктории. Он снял с держателя рулон туалетной бумаги, стал царапать химическим карандашом листок за листком. Стихотворенье решительно превратилось в стих о Благословенной Деве.
Откуда марианство?[25] Эндерби знал. Вспомнил свою спальню с благочестивыми картинками итальянских художников-коммерсантов: Пий XI в тройной тиаре, с благословляющим жестом; Иисус Христос с обнаженным лучащимся сердцем, на которое — для верности — деликатно указывает божественный указующий перст; святые (Антоний, Иоанн Креститель, Бернадетта); Дева Мария с нежной улыбкой, в красивом покрывале.
Я нигде, я в каждом и любом, будь то женщина или мужчина —
Легко принять благость, сладкие напевы:
Терпеливый вагон для чужого сына.
За дверью спальни стояла чаша со святой водой, осушенная сквозняком мальчишеского неверия Эндерби. Весь дом, до самой границы с нейтральной или протестантской территорией магазина, был битком набит другими чашами, распятиями, гипсовыми статуэтками, засохшими пальмовыми листьями со Святой земли, благословленными в Риме четками, парой Агнус Деи[26], декоративными благочестивыми словоизвержениями (исполненными в Дублине псевдокельтскими письменами), краткими, как рычание. Это был католицизм его мачехи, импортированный из Ливерпуля, — реликвии, символы, агиография, служившие проводником молний; ее религия — просто страх перед громом.
Католицизм семьи Эндерби шел из маленького католического кармашка неподалеку от Шрусбери, из деревеньки, которую Реформация лишила лишь храма. Слабый в отце-табачнике (выскребавшем физиономию в Святую субботу, присутствовавшем на пьяной полуночной мессе на Рождество, — не больше), он умер в сыне-поэте, благодаря той самой мачехе. Теперь, по прошествии двадцати с лишним лет, слишком поздно смотреть на него свежим взглядом, оценивать интеллектуальное достоинство, хладнокровно-последовательную теологию. Он с горькими слезами боролся с ним в юности с помощью Ницше, Толстого, Руссо, и борьба за создание собственных мифов сделала его поэтом. Теперь уже невозможно вернуться к нему, даже если захотеть. Если б он это сделал, пришлось бы искать обращенных, которые пишут триллеры, чувствуя себя проклятыми, или создали эксклюзивный клуб оксфордских обращенных, выдавая его за Церковь, куда Эндерби не допустили бы. Пользуясь публичной славой отступника, Эндерби пришлось бы якшаться со всякими бешеными ирландцами. Поэтому лучше успокоиться насчет веры или ее утраты (отвечая при поступлении в армию на вопрос о религии, он сказал: «Гедонист», — и вынужден был присутствовать на парадах Объединенного комитета); оставалась, похоже, одна проблема: его искусство отказывалось успокаиваться.
В клетке хохот его вызревает и бродит,
Червь и рыба, посмеиваясь, как шуты королевы,
Ткут маскарадный костюм, что ему так отлично подходит.
В конечном счете религиозная вера значения не имеет; вопрос в том, какие использовать мифы, еще сохранившие для использования достаточно эмоционального веса. Поэтому Дева Мария в нежной голубизне произнесла теперь заключительное трехстишие, чуть улыбаясь прялке:
И хотя голубь смиловался, как там ни говори,
Не оскорбил своей плотью плоть девы,
Остались терзанья неправильной и бесполезной любви.
В воздухе слишком много любви, беспокоился Эндерби, с неудовольствием перечитав стих. Стало ясно: невзирая на очевидно поверхностный миф, здесь есть что-то о происхожденье поэта. Он написал на последнем листке туалетной бумаги: «Каждая женщина — мачеха» — и спустил его в унитаз. Это, думал он, общий закон. А теперь, судя по шумной тьме вокруг кабинки, где час бродил, вызревал его стих, поезд прибыл. Рев цирковых тюленей, грохот рухнувших ящиков, высокие каблуки по платформе, шипение, содрогание и предсмертное, выражаясь елизаветинской идиомой, сжатие поезда.
Через несколько часов Эндерби сидел под величественным потолком, смущенный едой, выпивкой, неискренними похвалами. Не самая отборная сигара тряслась в его пальцах, которые, как он теперь видел, надо было не полениться почистить пемзой. Сонным зимним днем ему не удалось зафиксировать многих слов оратора, сэра Джорджа Гудбая. За столом напротив и по обе стороны от него с потолка свисали на сигаретном дыму двадцать с гаком коллег-писателей, лица которых мельтешили перед глазами Эндерби двумя рядами просыхающих миниатюр. Выступала с поднятой лапой какая-то конная статуя с весьма солидным животом, символизирующая одновременно Время и Лондон. Хотелось поковырять в носу. Из всего им в тот день уже выпитого коктейль «Кровь висельника» быстро перемешался глубоко в кишках, как в шейкере, потом выстрелил своим вкусом в рот на пробу. Подавали фальшивую черепаху в масле с очень свежими рогаликами и кусочками масла в виде розетки. Из жареной утки Эндерби достался самый что ни на есть жирный кусок с горошком, соте из картошки, кислым апельсиновым соком, густой тепловатой подливкой. Клюквенный пирог, сырые пирожные с искусственными, туго сбитыми сливками. Сыр.
Улыбнись, скажи: чи-и-из. Эндерби через плечо улыбнулся какой-то женщине, которая улыбалась ему. Ваша поэзия меня искрение восхищает, но видеть вас во плоти — откровение. Еще бы, черт возьми. Перррррп.
— Откровение, — говорил сэр Джордж, — чистейшей красоты. Волшебная сила поэзии преобразует сор повседневной трудовой жизни в сущее золото. — Сэр Джордж Гудбай был древним мужчиной, видимые детали которого в основном представляли собой жеваные клочки хорошо загоревшей кожи. Он основал фирму, носившую его имя. Фирма разбогатела главным образом на продаже непристойных книжек, с которыми другие издательства слишком боялись иметь дело. Возведенный Рамсеем Макдональдом[27] в рыцари за вклад в дело массовой грамотности, сэр Джордж всегда желал служить литературе иным способом, кроме торговли ею: с юных лет жаждал стать умиравшим с голоду поэтом, признанным лишь после смерти. Писал и писал стихи, умиравшие с голоду, когда судьба давно уже обрекла его зарабатывать деньги, с помощью которых он шантажом заставил несчастную мелкую фирмочку публиковать их под угрозой цепного бойкота всех ее прочих изданий. Расходы оплатил полностью — печать, тираж, распространение, — но репутация фирмы погибла. Вот томики виршей сэра Джорджа, наиболее памятные дурнотой: «Рифмованные байки курильщика трубки», «Сон о веселой Англии», «Розовые лепестки памяти», «Песни оптимиста». Он был, конечно, не в силах заставить людей покупать или даже читать омерзительное собрание, но раз в год, присуждая медаль и чек одному из своих скромно им признаваемых братьев-певцов, жирно умащал свою речь комьями собственных произведений, доводя аудиторию до тошнотворного изумления.
— Гиганты моей юности, — говорил сэр Джордж, — Добсон, Уотсон, сэр Эдвард Арнолд, мистик; революционер Бриджес; Колверли, чтоб посмеяться; Барри Пейн, чтобы глубоко вздохнуть. — Эндерби втуне затянулся сигарой, безвкусно ее прикусил. Снова образ из детства: учительница в начальной школе рассказывает про душу и про растлевающее воздействие на нее греха. Мелом на доске нарисовала что-то большое белое вроде сыра (душа), потом, послюнив палец, наставила на ней пятен, как на далматинце (грехи). Эндерби почему-то всегда удавалось почувствовать вкус той самой меловой души — сырая картошка в остром уксусе, — и сейчас он его сильно чувствовал. — Душа, — кстати провозгласил сэр Джордж, — чистое поле, где бродит поэт; море, где он правит парусной ладьей рифм; возлюбленная, которую он воспевает. Душа, воскресный предмет проповедника, — повседневный хлеб поэта. — Повседневная сырая картошка. Эндерби чувствовал поднимавшийся борборыгм.
Брррфффп.
— Приведу вам в пример, — заморгал сэр Джордж, — один свой сонет на подходящую к случаю тему. — И прочитал высоким придушенным голосом на одной камертонной ноте стих в четырнадцать строк, но решительно не сонет. В нем присутствовали зеленеющие луга и лучистое солнце, а также — почему-то — земля, расцветшая розами. Эндерби, поглощенный необходимостью подавления телесных звуков, слышал только фрагменты исключительно плохих стихов, одобрительно кивал в знак признания, что, на его взгляд, сэр Джордж отлично выбрал иллюстративный пример очень дурной поэзии. При гнусном трубном скрежете последней строчки почуял приближение особенно громкого звука, прикрыв его смешком:
— Ха-ха — (перррпф) — ха.
Сэр Джордж был не столько раздражен, сколько озадачен. Пять секунд таращился на Эндерби сверху вниз, потом, трясясь, просмотрел свою рукопись, словно боялся, как бы туда тайком не проникло что-нибудь скатологическое. Удостоверившись, насупился на Эндерби, тряся лоскутами кожи, потом сделал вдох для резюме. Открыл рот, и Эндерби с предательской своевременностью выпустил газы:
— Брррбрррпкрррк.
Шем Макнамара заметил:
— Никогда я не слышал более краткой и хорошей критики. — У него было грозовое ирландское лицо с двойным подбородком, хохлатые волосы и черная рубашка (экономия на стирке). Эндерби плохо смотрелся в своем повседневном поэтическом наряде, но этот мужчина представлял собой крепкого бродягу, спавшего в сарае, ободранного о кустарник. Усталые белые лица прочих гостей, — которые Эндерби видел, но смутно, — расплывались в усмешках. Сам сэр Джордж как бы внезапно устал. Слабо улыбнулся, нахмурился, в какой-то молчаливой радости открыл рот, нахмурился, сглотнул и non sequitur[28] сказал:
— Именно поэтому я с радостью вручаю нашему присутствующему здесь коллеге, певчей птице, э-э-э, Эндерби, золотую медаль Гудбая. — Эндерби поднялся под аплодисменты, достаточно громкие, чтоб заглушить три трескучие взрыва в кишках. — И чек, — продолжал сэр Джордж с тоской по поэтической бедности, — очень-очень маленький, но, надеюсь, способный на месяц-другой ослабить тиски. — Эндерби принял трофеи, обменялся рукопожатиями, притворными улыбками, потом снова сел.
— Спич, — потребовал кто-то.
Эндерби снова встал с более глухим взрывом и понял, что не уверен в протокольном вступлении. Сказать: «Господин председатель»? Существует ли председатель? Если председатель сэр Джордж, говорить ли еще что-нибудь, кроме «господин председатель»? Может, просто сказать: «Сэр Джордж, леди и джентльмены»? Но он заметил, что тут вроде присутствует кто-то с официальной поблескивавшей на груди цепью, притаившись в тени, мэр или лорд-мэр. Сказать: «Ваша милость»? И вовремя понял, что это какой-то лакей, ответственный за вино. Сдерживая ветры — нервные улыбки Эола, — он громко и четко сказал:
— Сент-Джордж. — Опять зарябили улыбки. — И дракон[29], — пришлось теперь добавить. — Британский кимвал, — продолжал Эндерби, с ужасом видя перед собой в каком-то неоновом свете глупейшую орфографическую ошибку. — Кимвал, неблагозвучно бряцающий медью, если мы не ясны. — Последовало одобрительное ерзанье ягодиц, шевеление плеч: Эндерби собирался быть кратким и юмористичным. И безнадежно сказал: — Как большинство из нас, или нет. Включая меня. — Увидел, что сэр Джордж нацелил на него все широкие лицевые отверстия, словно он, Эндерби, стоял на пути на каком-то помосте. — Ясность, — сказал он почти со слезами, — красное вино для йодлеров. Именно поэтому, — задохнулся он, ужасаясь самому себе, — я с чрезвычайной радостью возвращаю чек Сент-Джорджу на благотворительные цели. Он знает, что может сделать со своей золотой медалью. — Эндерби был готов умереть от шока и возмущения собственными словами, но его несло к заключительному убийственному моменту. — Сор повседневной трудовой жизни, — сказал он, — что наш коллега-певец Гудбай опроверг столь адекватно. И поэтому, — сказал он, возвращаясь в армию и рассуждая о Путях и Целях Британии, — мы ждем, когда мир выйдет из тьмы угнетения, из-под железной пяты со шпорой в виде свастики, чтобы она уже не попирала лик попранной свободы, и двинется к реальной демократии, справедливой оплате честного рабочего дня, к достойному медицинскому обслуживанию, к мирному существованию, голубем воспарившему в дни угасания старцев. С этой верой и надеждой пойдем вперед. — Эндерби обнаружил, что не может остановиться. — Вперед, — потребовал он, — к временам, когда мир выйдет из тьмы угнетения. — Сэр Джордж встал, засеменил к выходу. — Честный рабочий день, — слабо молвил Эндерби, — за справедливую дневную плату. Честная игра со всеми, — с сомнением пробормотал он. Сэр Джордж исчез. — Итак, — заключил погибший Эндерби, — я поведал вам истину.
Компания мгновенно раскололась. Двое мужчин гневно набросились на Эндерби.
— Если, — сказал Шем Макнамара, — вам не нужны эти чертовы деньги, могли бы хоть про других вспомнить. Включая меня, — передразнил он, неодобрительно дыхнув на Эндерби луком, ибо лук входил в каждое блюдо.
— Я не хотел, — объяснил Эндерби, чуть не плача. — Не знал, что говорю.
Издатель Эндерби сказал:
— Хотите всех нас погубить, да? — с резко повышавшейся интонацией. Это был смышленый молодой мужчина из Брайтона. — Ничего не скажешь, старик, вы чертовски удачно управились.
Человечек, усатый, как Киплинг, в таких же пучеглазых очках, с массивной часовой цепочкой, подошел к Эндерби, крепко взялся за лацканы Арри.
— Меня зовут Роуклифф, — представился он. И потащил Эндерби от стола короткими танцевальными шагами, по-прежнему крепко держась за лацканы. Роуклифф многократно кивнул, склонил ухо, удовлетворенно кивнул, потом просто кивнул, жуя. — Очень волокнистая утка, — заметил он. — Вы меня знаете. Я во всех антологиях. Ну, теперь, Эндерби, расскажите-ка мне с полной честностью, расскажите-ка мне, что поделываете в настоящее время.
— Знаете, просто пишу, — рассказал Эндерби, стараясь сообразить, кто такой Роуклифф. С тревогой слышал позади обсуждение малыми группами своего спича и его последствий для розничной книжной торговли.
— Каждый бы догадался, — сказал Роуклифф, дергая лацканы Арри, точно коровье вымя, — разумеется, пишете, слегка догадался бы, как я догадываюсь. — Фыркнул, сглотнул, кивнул. — Ну а что, Эндерби, что? Что вы пишете? — посмеялся он. — Сказку о стебле и камне, а? Как Джеймс Джойс. Что, мифотворец?
— Ну, — сказал Эндерби и с взыгравшими пеной нервами выпалил подробный синопсис «Ручного Зверя».
— На самом деле Зверь — Первородный грех, да? — понял Роуклифф. — Без Первородного греха нету цивилизации, да? Хорошо, хорошо. И название, снова повторим название. — Отпустил лацканы, отыскал в жилетном кармане коротенький карандаш, лизнул кончик, вытащил пачку сигарет, горестно ее потряс, записал снизу печатными буквами название Эндерби. Повторил: — Хорошо. Бесконечно признателен. — И отошел, кивая. Эндерби с грустью увидел, как он присоединился к группе важных поэтов, снизошедших к даровому, цинично съеденному угощению: Постскриптум ффоллиотт, Питер Питтс, Альберт Смертельно-Кинжалов, Руперт Замогильный, что-то вроде того. Они главным образом бормотали ему: «Удачно управился», — за предзакусочно булькавшим шерри. Теперь он остался наедине со своими ветрами, вне общества. А также без медалей и чеков. Фактически, поездка пропащая.
— Мистер Эндерби? — слегка, очень мило, запыхалась леди. — О, слава богу, вовремя успела.
— Знаю, — признал Эндерби, — сэр Джордж поймет, это шутка. Пожалуйста, передайте мои извинения.
— Сэр Джордж? А, знаю, о ком вы. Извинения? Не поняла. — Наверно, лет тридцать, жеребячьи модно раздутые ноздри, лебяжья шея натурщицы. Грациозно носит шляпку от Кардена в виде совка для сахара из бежевого велюра, костюм того же мастера со свободным пиджаком, лишь намекающий на пышность пеплума. Сверху распахнута шубка из оцелота. Скромно источаемый шик. Какая чистота, благоухание («Мисс Диор»), с глубоким сожалением думал Эндерби, какое тонкое, прозрачно-чулочное очарование. Лицо, решил он, лишено всякой видимой чувственности, — никакого сладострастия в нижней губе; зеленые кошачьи глаза очень холодные, умные; высокий гладкий лоб затенен совком для сахара. Эндерби подтянул узел галстука, разгладил боковые карманы, сказал:
— Извините. — Потом: — Я думал. Так сказать.
— О, — сказала она. Они стояли, глядя друг на друга, под сиявшими плоскими стеклянными лампами в коридоре отеля, утопая ногами в бургундском ковре. — Ну, первым делом хочу сказать, ваша поэзия меня искренне восхищает. — Произнесено с интонацией, ожидающей недоверчивого смешка. Голос тихий, однако согласные резкие, как у оратора, слишком близко держащего микрофон, с легчайшим грамотным шотландским налетом. — Я целую вечность назад писала издателям, чтобы вам передали. Наверно, вы так и не получили письма. Если бы получили, ответили бы, я уверена.
— Да, — подтвердил взволнованный Эндерби. — Да, ответил бы. Только, может, его переслали на мой старый адрес, новый я им забыл сообщить, почте тоже, если на то пошло. Чеки, — захлебывался Эндерби, — обычно отправляются прямо в банк. Не знаю, зачем я вам это рассказываю. — Она стояла в позе натурщицы, холодно слушала, приоткрыв губы; на правой руке висит сумочка, большой и указательный пальцы левой руки в перчатке легонько потирают безымянный палец правой руки без перчатки. — Страшно жалко, — униженно сказал Эндерби. — Наверно, поэтому я его так и не получил.
Она перестала спокойно слушать, вдруг засуетилась.
— Слушайте, я была приглашена на этот званый завтрак, но прийти не смогла. Не согласитесь ли, — предложила она с неким движением на грани неподвижности, вроде апофеоза подпрыгиванья девчонки-работницы в зимней очереди на автобус, бесконечно женственным, — где-нибудь пару минут посидеть, то есть если у вас время найдется. О, — сказала она, — какая я глупая, — рука в перчатке шлепнула по губам, mea culpa[30], — не представилась. Веста Бейнбридж. Из «Фема».
— Откуда?
— Из «Фема».
— Что, — спросил Эндерби с колоссальным и подозрительным беспокойством, — это такое? — Он услышал, хоть и не поверил в такую возможность, что-то типа «Флегма» и призадумался, какой цели может служить организация (если это организация) с подобным названием.
— Да, конечно, понятно, должно быть, вы не знаете, да? Это женский журнал. А я, — объявила Веста Бейнбридж, — художественный редактор. Ну, что скажете, можно? Полагаю, для чая еще слишком рано. Или нет?
— Если хотите чаю, — галантно сказал Эндерби, — я буду очень рад. Мне будет очень приятно.
— О нет, — сказала Веста Бейнбридж, — понимаете, вы должны выпить чаю со мной, за мой счет. Понимаете, дело связано с «Фемом».
Однажды добрая старая леди угощала в эдинбургском ресторане Эндерби, бедного солдата, чаем, выпущенными в кипяток яйцами, пикшей и песочным печеньем. Но чтобы кто-то столь очаровательный, столь привлекательный, он никогда не думал, не мечтал. Испытывал одновременно ошеломление и благоговейный страх.
— Вы, случайно, не из Эдинбурга? — полюбопытствовал он. — Что-то в вашем произношении…
— Из Эскбэнка, — подтвердила Веста Бейнбридж. — Потрясающе! Но разумеется, вы поэт. Поэты вечно выкапывают подобные вещи, правда?
— Если, — сказал Эндерби, — вам моя поэзия действительно нравится, как вы говорите, фактически, это я должен вас пригласить выпить чаю со мной, а не вы меня. Самое меньшее, что можно сделать, — сказал щедрый Эндерби, нащупывая в кармане брюк Арри монету в полкроны.
— Пойдемте, — предложила Веста Бейнбридж, сделав жест-венок, чтоб взять Эндерби под руку. — Я действительно ваши произведения обожаю, — заверила она. И на высоких уверенных каблуках повела его мимо элегантных бутиков, торговавших цветами и ювелирными изделиями, киоска авиакомпании с деловыми телефонными переговорами насчет рейсов в Нью-Йорк, на Бермуды; мимо безобразия и богатства, затаившихся, словно в коконе, в очаровании снежного винного цвета ковра под ногами, в пропитанном ароматами воздухе, легко плывущем, пыльно-мягком свете из невидимых источников, в тонком золоте прекрасного белого бордо. Здесь каждый вдох, каждый шаг, думал бережливый Эндерби, должен стоить, как минимум, таннер[31]. Веста Бейнбридж с ним вместе вошла в просторный зал, где в мягкости огромных бисквитного цвета кубов с выемкой посередине покоились тепло укутанные люди. Позвякивал смех, позвякивали чайные подносы. Эндерби почуял в ужасе, что его кишечник готовится прокомментировать сцену. Посмотрел на барочный плафон со множеством толстозадых херувимов, бросавшихся в глаза. Это не помогло. Они утонули в креслах, Веста Бейнбридж продемонстрировала изящные лодыжки, тонко вылепленное колено. Официант, римлянин со впалыми щеками, принял у нее заказ. Будучи шотландкой, она существенно размахнулась: тосты с анчоусами, сандвичи с яйцами, пышки, пирожные, китайский чай с лимоном.
— И, — сказал Эндерби, — вам удастся пообедать после подобного чая?
— О да, — сказала Веста Бейнбридж. — Не могу набрать вес, как бы ни старалась. Чай с лимоном, потому что люблю такой чай, не ради похудания. Очевидно, — добавила она.
— Но, — сказал Эндерби, вынуждаемый на очевидно избитый комплимент, — вы безусловно идеально выглядите. — Вдруг увидел себя, бульвардье Эндерби, ловкого в обращении с женщинами, умеющего изящно польстить, попивавшего чай с шаловливо прищуренным взглядом. В тот же самый момент ветры, словно прихваченные за шкирку непослушные дерущиеся котята, пожелали вырваться на волю, как бы невзначай. Чай невзначай. — А, — сказал он, — позвольте спросить, что это за дело с «Флегмой»?
— О, — сказала она, — правда, забавно? Название Годфри Вейнрайт придумал. Знаете, он обложки делает. «Фем». Может быть, выбор не очень хороший. Но, понимаете, рынок завален женскими журналами: «Феминократ», «Добрая жена», «Лилит», «Киска-прелесть». Простые названия со словом «женщина» давным-давно отработаны. Как вы понимаете, что-то новое очень трудно придумать. Впрочем, «Фем» не так плохо, да? Коротко, мило, звучит французисто и немножечко неприлично, согласны?
Эндерби подозрительно посмотрел на нее. Французисто, немножечко неприлично, вот как?
— Да, — сказал он. — И что у меня может быть общего с такими вещами? — Не очень хорошо, и не так плохо, сказала она; то и другое на одном дыхании. Возможно, не слишком правдивая женщина. Прежде чем она успела дать ответ на вопрос, прибыл чай. Официант-римлянин осторожно поставил на низкий столик с резными когтистыми лапами-ножками блюда под запотевшими серебряными крышками, крошечные, сочившиеся кремом пирожные. Разогнулся, поклонился, усмехнулся челюстями и ушел. Веста Бейнбридж разлила чай. И сказала:
— Я почему-то подумала, что вы предпочитаете вот такой чай — без сахара, без молока, с лимоном. Ваши стихи немножечко, я сказала бы, терпкие, если можно так выразиться. — Эндерби кисло уставился в кислую чашку. Он на самом деле предпочитал мачехин чай, но она заказала, его не спросив.
— Очень хорошо, — сказал он. — В самый раз.
Веста Бейнбридж с большим аппетитом взялась за еду, укусила тост с анчоусами, показав красивые мелкие зубы. Сердце Эндерби согрелось: он любил смотреть, как едят женщины; смачная еда как бы умаслила ее постное совершенство. Но, думал он, с подобной фигурой у нее права нет на такой аппетит. Испытывал желание пригласить ее на обед в тот же вечер, взглянуть, как она будет есть минестроне[32] и рубленую свинину. Он боялся ее.
— А теперь, — сказала Веста Бейнбридж; розовый острый кончик языка выстрелил, подцепил крошку тоста и снова исчез, — я хочу, чтоб вы знали, я ваши произведения обожаю и сейчас сделаю предложение, которое целиком представляет собой мою собственную идею. Оно, разумеется, встретило определенное сопротивление, ведь «Фем», в сущности, популярный журнал. А ваша поэзия, как вы с гордостью должны признать, не совсем популярная. Конечно, ее и непопулярной не назовешь, просто она неизвестна. Поп-певцы известны, тележурналисты известны, диск-жокеи известны, а вы неизвестны.
— Что, — спросил Эндерби, — это такое? Поп-певцы и так далее? — Она вопросительно на него посмотрела, признала недоумение искренним. — Боюсь, — пояснил Эндерби, — после войны я заперся от подобных вещей.
— У вас нет ни радио, ни телевизора? — сказала Веста Бейнбридж с широко открытыми зелеными глазами. Он кивнул. — И газет не читаете?
— Я обычно читал определенные воскресные газеты, — сообщил Эндерби, — ради книжных обозрений. Но это так сильно меня угнетало, что пришлось бросить. Критики кажутся столь, — нахмурился он, — ужасно огромными, если вы меня понимаете. Как бы вмещают в себя нас, писателей, так сказать. Как бы все о нас знают, а мы о них ничего. Помню, была одна очень доброжелательная и очень компетентная рецензия на один мой сборник, которую написал очень хороший, по-моему, человек, только было понятно, что, выдайся у него время, он гораздо лучше сочинил бы мои стихи. От подобных вещей себя чувствуешь совсем ничтожным. О, знаю, ты в самом деле ничтожен, но об этом надо забывать, если вообще хоть что-нибудь собираешься сделать. Поэтому я чуточку отгородился, ради работы. Все почему-то кажутся такими умными, если вы меня понимаете.
— И да и нет, — находчиво ответила Веста Бейнбридж. Она уже съела все тосты с анчоусами, пять сандвичей с яйцами, пару пышек, пирожок, и все-таки ухитрялась выглядеть эфирным, холодным, как скала, созданием. С другой стороны, Эндерби, который из-за изжоги только, как мышка, по крошечке грыз квадратный дюйм сырого хлеба с колечком яйца, чувствовал себя толстым, потным, изо рта дурно пахнет, живот набит, как ночной мусорный ящик. — Я себя ничтожной не чувствую, — объявила Веста Бейнбридж. И добавила: — Я просто ничто по сравнению с вами.
— Но вам нечего чувствовать себя ничтожной, правда? — заметил Эндерби. — Я имею в виду, вам достаточно лишь на себя посмотреть, разве нет? — Высказал это бесстрастно, нахмурившись.
— Неплохо для отгородившегося от мира мужчины, — заключила Веста Бейнбридж. — Я бы сказала, — сказала она, налив еще чаю, — для поэта это очень неразумно. В конце концов, вам нужны образы, темы и прочее, правда? Все это получаешь из внешнего мира.
— В полуфунте новозеландского чеддера, — с авторитетной твердостью сказал Эндерби, — вполне хватит образов. В воде для умывания. Или, — еще авторитетнее добавил он, — в новом рулоне туалетной бумаги.
— Бедняга, — сказала Веста Бейнбридж. — Вот так и живете?
— Каждый, — заявил Эндерби, пожалуй, не столь догматично, — пользуется туалетной бумагой. — Очень высокий мужчина в очках оглянулся из кресла, открыв рот, как бы с целью оспорить это утверждение, потом, передумав, вернулся к вечерней газете. «Поэт отказывается от медали» гласил крошечный заголовок, мельком замеченный Эндерби. Еще какой-то чертов дурак рот разинул, какая-то другая игрушечная труба протрубила к бою.
— Так или иначе, — продолжала Веста Бейнбридж, — думаю, было бы замечательно расширить круг ваших читателей. Не попробуете ли, скажем, полгода писать по стиху в неделю? Предпочтительно в прозаической форме, чтоб никого не обидеть.
— По-моему, на самом деле люди стихи обидными не считают, — сказал Эндерби. — По-моему, они просто их презирают.
— Ну, пусть так, — согласилась Веста Бейнбридж. — Что ответите на предложение? — Ткнула вилкой в какие-то макароны и, прежде чем съесть, сказала: — Стихи, я сказала бы, и надеюсь, что правильно выражаюсь, должны быть эфемерными. Понимаете, рассказывать о повседневных вещах, интересующих среднюю женщину.
— Сор повседневной трудовой жизни, преобразованный в сущее золото, — процитировал Эндерби. — Думаю, что сумею. Мне все известно о домашнем хозяйстве, посудных полотенцах и прочем. О щетках для унитаза.
— Боже, — вздохнула Веста Бейнбридж, — да вы одержимы клоаками, правда? Нет, не о таких вещах, и вдобавок поменьше сущего золота. Женщины не выносят чрезмерной реальности. Желательна любовь, мечты, младенцы, без одержимости клоаками. Тайна звезд неплохо пойдет, особенно увиденных из церковного сада. И пожалуй, супружество.
— Скажите, — попросил Эндерби, — вы мисс или миссис Кембридж?
— Не Кембридж, а Бейнбридж. Не «Флегм», а «Фем». Миссис. Почему вы спрашиваете?
— Надо же мне как-то вас называть, — объяснил Эндерби, — правда? — Кажется, она разделалась, наконец, с едой, поэтому он протянул свою смятую сигаретную пачку.
— Я свои курю, — отказалась она, — если не возражаете. — Вытащила дешевые матросские сигареты и, прежде чем Эндерби успел отыскать в своем коробке неиспользованную спичку (по давней непостижимой привычке он сберегал обгоревшие спички), щелкнула, потом защелкнула перламутровую зажигалку. Широкие ноздри моржовыми усами выпустили две красивые голубые ракетные струи.
— Я так понял, — догадался Эндерби, — муж ваш служит во флоте.
— Мой муж, — сказала она, — умер. Видно, вы в самом деле отрезаны, да? Кажется, все слышали про Пита Бейнбриджа.
— Очень жаль, — сказал Эндерби. — Весьма жаль.
— Чего? Того, что он умер, или что вы о нем никогда не слышали? Ну, не важно, — сказала вдова Бейнбридж. — Он разбился четыре года назад на ралли в Монте-Карло. Я думала, всем об этом известно. Газеты писали, большая потеря в мире автогонок. После себя оставил красивую молодую вдову, бывшую его женой лишь два года, — добавила она полунасмешливым тоном.
— Правда, — серьезно подтвердил Эндерби. — Безусловно. Красивую, я имею в виду. Сколько?
— Что сколько? Сколько он мне оставил или сколько я его любила? — Она вдруг показалась уставшей, возможно от переедания.
— Сколько я получу за написанные стихи?
— Мистер Дик нас хорошо обеспечивает, — сказала Веста Бейнбридж, вздыхая и выпрямляясь. Стряхнула с колен минимальные крошки и объявила: — Две гинеи за стих. Не много, но больше устроить не сможем. Понимаете, мы публикуем воспоминания поп-певца, — не очень длинные, конечно, ему ведь всего девятнадцать, — но, поверьте, они нам влетают в добрую копеечку. Да еще эти самые мемуары надо за него написать. Тем не менее результат публикации должен, мягко сказать, стимулировать. Если этот царский гонорар вам годится, я контракт пришлю. И несколько старых номеров «Фема», чтоб вы знали, на что это похоже. Не забудьте, пожалуйста, словарь наших читателей не слишком обширен, поэтому не употребляйте слов вроде «орифламма» или «фатальность».
— Спасибо, — поблагодарил Эндерби. — Я вам поистине очень признателен за такое обо мне мнение. Вы действительно в высшей степени любезны. — Он тыкал спичкой в пепельницу, раздавливая окурки, для чего вынужден был как бы корчиться на краешке кресла, демонстрируя миссис Бейнбридж лысую макушку. Потом честно взглянул снизу вверх довольно влажными за стеклами очков глазами.
— Слушайте, — улыбнулась она, — вы не верите, что я ваши стихи люблю, да? Ну, я даже наизусть один-другой знаю.
— Прочтите, — взмолился Эндерби.
Она набрала воздуху и прочла, вполне четко, однако почти без тональных нюансов:
Конечно, сон, мечта, но ведь на всех одна.
Мысль, что плетет ее, стежка не пропускает;
И каждый абсолютным слухом обладает:
Как только нота прозвучит, известна нам она.
— Хорошо, — сказал Эндерби. — Я впервые фактически слышу…
Тьма пресечет любой порыв исследовать до дна
Те воды, что свет в сточную канаву превращает,
А тут бескрайний океан ревет, играет,
Богат героями и рыбой, пока землечерпалка не пришла.
— Великолепно, — сказал Эндерби. — А теперь секстет. — Он с волнением слушал собственные стихи. Она уверенно продолжала:
Wachet auf![33] Петух с навозной кучи, замышляя зло,
Швыряет шумные сигналы ширам[34],
Мартинка-ласточка на храмовых часах устроила гнездо,
Но утро наступило (птицы не обманывают мира).
Ключ с каждым оборотом расщепляет ржавый век в осколки, как стекло;
Сотни людей дрожат у очагов в своих квартирах.
— Вот, — сказала она, переводя дух. — Но я фактически не имею понятия, что это значит.
— О, — сказал Эндерби, — значение не столь важно. Я удивлен, что вам это понравилось. Иначе представлял себе женские стихи. — Стихотворенье вдруг словно нашло себе место в реальном мире, где заморские бизнесмены читают финансовые газеты, пахнет «Мисс Диор», или как его там; шум Лондона готов наброситься за дверями отеля. Прочтенное ей, оно как бы пошло в дело.
— И как именно вы себе представляете женские стихи? — поинтересовалась миссис Бейнбридж.
— Для вас, — сказал Эндерби с обезоруживающей честностью, — что-то более мягкое, более изящное, что-нибудь не такое жестокое, без мысли, без истории. Понимаете, это о Средневековье и наступающей Реформации. В секстете у нас Мартин Лютер, начало раскола, все оказываются в одиночестве, общая традиция больше не служит справочным камертоном, нельзя определить время, потому что общая традиция исчерпана. Ничего определенного и ничего таинственного.
— Ясно, — сказала Веста Бейнбридж. — Значит, вы католик, как я понимаю.
— О нет-нет, — запротестовал Эндерби. — Нет, я, правда, нет.
— Хорошо, — улыбнулась Веста Бейнбридж. — Я вас впервые слышу. — Протестант Эндерби, ухмыльнувшись, заткнулся. Подошел официант-римлянин, легонько, но скорбно жуя, со счетом. — Мне, — велела она, и в сумочке свиной кожей зашуршали банкноты. Заплатила по счету и, по-женски, дала официанту на чай умеренно адекватную сумму.
— Мне хотелось бы вас пригласить пообедать со мной нынче вечером, — сказал Эндерби, — но я только что сообразил, что взял с собой не слишком много денег. Понимаете, думал вернуться назад сразу же после ленча. Страшно совестно.
— Ничего, — улыбнулась Веста Бейнбридж. — Я уже приглашена. Куда-то в Хэмпстед. Но с вашей стороны очень милое предложение. Ну, — сказала она, — взглянув на крошечные устричные часики, — боже, время, куда вам писать? — Вытащила блокнотик, карандаш, чтоб записывать под диктовку Эндерби. Адрес, аккуратно записанный тонкой рукой, почему-то казался вульгарным и даже комическим. Фицгерберт-авеню, 81. Он постарался скрыть от нее звук спущенной в унитазе воды, заскорузлые молочные бутылки на лестнице, шебаршивших в рукописях мышей. — Хорошо, — заключила она, закрыв книжку. — А теперь мне надо идти. — Накинула на плечи оцелота, плотно защелкнула сумочку. Эндерби встал. Она встала. — Было страшно мило, — сказала она. — О, мало того. Просто честь для меня, правда. Теперь я действительно должна бежать. — И неожиданно пожала ему руку, прямо над локтем. — Не трудитесь провожать до дверей, — предупредила она. И пошла, ловко, быстро, шагая по ковру, как по канату. Эндерби впервые уловил намек на цвет волос, закрученных на затылке, — цвет монетки в пенни. Вздохнул, оглянулся, увидел, что на него уставился официант. Официант сделал жест — быстро растянул по-лягушачьи рот, передернулся, — что означало: (а) конечно, она элегантная, только слишком худая; (б) пошла встретиться с кем-то посимпатичнее Эндерби; (в) женщины по сути своей щедростью не отличаются; (г) жизнь адская, впрочем, всегда можно найти утешение в философии. Эндерби кивнул, — поэт, легко общающийся с представителями любого класса, — потом радостно осознал, что он снова один и свободен. Вырвавшиеся на волю ветры отметили этот факт.
Эндерби поздно в тот вечер вернулся домой. Хотя его извращенно независимая душа — сознание Эндерби ошеломленно охнуло — отвергала сладкое признание, он чувствовал более сильное rapprochement[35] с Лондоном, чем считал возможным днем раньше, царапая бумагу и голые ноги. Красивая светская женщина восхищена его творчеством и честно об этом сказала. Губы, целованные выдающимся автогонщиком, и, по предположению Эндерби, прочими, привыкшими сверкать зубами перед камерами, процитировали стихотворение из «Революционных сонетов» в богато пахнувшем месте, обитатели которого поднялись выше нужды в поэтическом утешении. Эндерби, бредя по улицам, испытывал беспокойство и тайно жаждал приключений. Снег здесь давно исчез, но с речного простора несло резким кусачим снежным привкусом в воздухе. Лондон тянулся назад, к газовым фонарям, к дешевым распродажам для глупых гусынь в конце торгового дня средь хриплых голосов кокни; Шерлок Холмс на Бейкер-стрит, вдова в Виндзоре, в мире все в полном порядке. «Папа писает»[36]. Он мрачно про себя улыбнулся, стоя у музыкального магазина, вспоминая лекцию-катастрофу, читанную однажды в Женском институте. По викторианской литературе. Это была непроизвольная перестановка звуков, которую аудитория пропустила. Но «тон сучек» потряс леди Фенимор, как нарочитое оскорбление. Больше никогда. Больше никогда, никогда. Безопаснее в уединении, в запертой творческой уборной. И все же единственным нынешним вечером сильно жаждалось приключений. Впрочем, что нынче подразумевается под приключением? Он уставился в витрину магазина, словно искал ответа. Разнообразные изображения юных оболтусов ухмылялись с обложек нотных сборников и с конвертов пластинок — обезьяньи лбы, цепкие пальцы на гитарных струнах, перекошенные в молодежной песне губы. Эндерби слышал о современных средних школах и теперь догадался, что эти зверюшки с пустыми глазами должны представлять их конечный продукт. Что ж, за две гинеи в неделю он собирается сослужить миру такую же службу, как эти пиявки с распущенными губами. Еще разок, как журнал называется? Флик, фляк, что-то вроде. Вполне определенно не «Флегм». В рамках согласных перебрал другие гласные. И тут, в подъезде через один, у одного из собственных магазинов сэра Джорджа Гудбая, плакат правильно подсказал: «Эксклюзивно для „Фема“, для вас, Ленни Биггс расскажет историю своей жизни. Сейчас же заказывайте экземпляр». А вот изображение Ленни Биггса, — физиономия, едва отличимая от других представителей того самого пантеона, который Эндерби только что обозрел, хотя, может, особенно смахивает на бабуина, чем просто на обезьяну общего рода, уверенно ухмыляется всему миру зубами, столь же откровенно фальшивыми, как у самого Эндерби.
Эндерби увидел мужчину в кепке с козырьком, шумно бросившего две пачки в фургон с надписью «ГУДБАЙ, ХОРОШИЕ КНИЖКИ». Потом фургон тронулся, презрительно, дерзко вонзившись в дорожный поток. «Так, — решил Эндерби. — Значит, сэр Джордж уже принялся за репрессалии, да? Все издания стихов Эндерби изымаются из продажи, да? Узко, весьма узко мыслящий человек». Зашел в магазин, удрученно увидел людей, покупающих книги по садоводству. Выставочные, снятые в ателье портреты моложавых ухоженных авторов бестселлеров увенчивали стопки самих бестселлеров. Эндерби захотелось бежать; это не лучше чтения воскресных рецензий. И чтоб усугубить несчастье, увидел, что обозлил сэра Джорджа: два запачканных томика Эндерби мрачно супились на непосещаемых поэтических полках. Он не достоин вниманья богатого рыцаря, слишком низок для низкой мести. Ну ладно. Внезапно из-под грудины Эндерби, вместе с острой диспепсической болью, сама собой взметнулась фамилия Роуклифф. Он говорит, во всех антологиях? Посмотрим.
Эндерби просмотрел «Поэзию сегодня», «Житничку современных стихов», «Лучших поэтов нашего времени», «Пою для тебя в утешенье, Солдат» (антология стихотворений генерал-лейтенанта Фиппса, к. в., з. о. с.[37] и т. д., тираж шестьдесят тысяч), «Внутренние голоса» и другие тома, обнаружив, что Роуклифф представлен везде следующими безыскусными лирическими строками:
Он сказал: «Неужели вам нужен другой,
Может, мне лучше уйти тогда».
Она не взглянула, не стала кивать головой,
Не сказала ни нет, ни да.
«Отправлюсь я с горя, нацелю ружье
На любого людей и страны врага.
Кровавый бой — утешенье мое».
А она не сказала ни нет, ни да.
И пошел он с грязью венчаться в усталый привал,
Общий ад поглотил его личный ад.
Долго землю чужую он потом своим поливал,
А она все молчит и не зовет назад.
Эндерби горько увидел в десятой антологии избранного десятую перепечатку этого самого стихотворения. И ни в одной книге не было ничего принадлежавшего Эндерби.
Он вытащил из правого брючного кармана Арри полную горсть монет. С сопением пересчитал: двенадцать и девять пенсов. Знал: в бумажнике одна фунтовая банкнота. Ругаясь про себя, продвигался к дверям, вновь пересчитывал, склонив голову. И наткнулся на молодого торговца, который сказал:
— Уупс, сэр. Не увидели ничего интересного, сэр?
— Книги, — объявил Эндерби с пролептически пьяной грубостью. — Трата времени и чертовых денег. — И ушел, бросив солдатское «гудбай» Гуд-баю, но ни одному гудбаеву гудбою. Почти прямо напротив был паб, в старомодных окнах которого с бутылочным стеклом светились уютные огоньки с рождественской открытки. Эндерби зашел в общественный бар и заказал виски.
Эндерби зашел в общественный бар и заказал виски. Это был другой паб, спустя несколько часов. Не второй, не третий, а где-то довольно далеко в ряду, иксовый, или какой-то еще. В целом, решил благосклонный, пошатывавшийся Эндерби, вечер прошел не так плохо. Встретил двух очень толстых нигерийцев с хитрыми широкими улыбками и многочисленными угрями. Они от всего сердца пригласили его в свою страну для написания эпической поэмы в честь ее независимости. Встретил любителя «Гиннесса» с деревянной ногой, которую тот, чтобы Эндерби получил удовольствие, предложил отвинтить. Встретил мелкого старшего офицера Королевского Военно-морского флота, который в самом дружеском на свете духе собирался подраться с Эндерби, а когда Эндерби возразил, вручил ему две пачки дешевых матросских сигарет и назвал своим корешем. Встретил остеопата-сиамца, владельца коллекции бойцовых рыбок. Встретил накачавшегося пуншем боксера, сообщившего, что видит видения, и предложившего за пинту увидеть одно. Встретил агрессивно жевавшего подбородком человечка, не лишенного сходства с Роуклиффом, клявшегося, будто пьесы Шекспира написаны сэром Уильямом Ноллисом, управляющим хозяйством королевы. Встретил сапожника, знавшего Ветхий Завет по-еврейски, эгзегезиста-любителя[38], не доверявшего всем библейским школам после 1890 года. Встретил, видел, слышал и многих других: тощую женщину, беспрестанно болтавшую на болтливом эльзасском; мужчину с трясучкой, проглотившего свою флегму («Фем», «Фем», помни, «Фем»); пару державшихся за руки лесбиянок; мужчину в ортопедическом ботинке, разрисованном переводными цветочками; желторотых солдат, пивших чистый джин… Почти пришло время закрытия, а Эндерби, по его мнению, был совсем рядом с Чаринг-Кросс. Тогда до Виктории две остановки подземки. Наверняка есть удобный, подходящий поезд до побережья, отбывающий после закрытия.
Пошарив, Эндерби расплатился за виски, увидел, что денег остается мало. По прикидке он умудрился в тот вечер принять около доброй дюжины виски и бочкового пива. Обратный билет прятался в левом внутреннем кармане пиджака Арри. Имелись сигареты. Еще разок выпить, и можно отправляться домой. Он с улыбкой оглядел бар. Добрые честные труженики британцы, соль земли, пересыпали скудную долю речей чертями и педрилами, играли в дартс, бросая дротики загрубевшими руками, однако с деликатностью. На скамье с высокой спинкой, установленной под прямыми углами к стойке, сидели две британки-работницы, умиротворенно потягивая крепкий пенный портер. Одна говорит:
— Начинается в «Феме» с будущей недели. С бесплатной цветной фотографией. Прям обалдеть.
Эндерби ревниво слушал. Другая женщина говорит:
— Никогда его не читаю. Название дурацкое. Потрясающе, что они иногда о себе выбражают, вот именно.
— Если, — вмешался Эндерби, — речь идет о журнале, в который я сам вношу вклад, я бы сказал, название задумывалось как французистое и неприличное. — Улыбнулся им сверху вниз вискисной улыбкой, правый локоть поставив на стойку, пальцы левой руки положив на предплечье. Женщины с сомнением на него поглядели. Они были, наверно, ровесницы Весты Бейнбридж, но окружала их аура черной кухни, подаваемого занятым покером мужчинам в рубашках с короткими рукавами чая, мелькающего и орущего в углу телевизора.
— Не поняла? — громко переспросила одна.
— Должно звучать неприлично, — с большой четкостью повторил Эндерби. — Французисто.
— Причем тут сто французов? — спросила другая. — Мы с подружкой просто разговариваем, если не возражаете.
— Стишки, вот что я туда буду писать, — сообщил Эндерби, — еженедельно. — И несколько раз кивнул, точно как Роуклифф.
— Держите свои стишки при себе, ладно? — посоветовала одна и сердито хлебнула «Гиннесса». С места для игры в дартс пришел мужчина с одним дротиком в руке и спросил:
— Ты тут как, Эди? — Он был в прилично пошитом костюме из невзрачного сержа[39], но без воротничка и без галстука. Рубашка на шее застегнута запонкой, золотая головка которой слепила Эндерби отраженным светом. Он был маленький, гибкий, как шахтер, с подвижным изможденным лицом. Оглядел Эндерби, точно ему предложили его оценить.
— Ты ей чего-то не то сказал, что ли? — спросил он. И провокационно добавил: — Приятель.
— Рассказывал, — доложила Эди, — про неприличные стишки. Да еще про французов.
— Ты тут моей жене неприличные стишки читал? — сказал мужчина. И подобно Смерти у Мильтона, потряс смертоносным дротиком.
— Просто сказал, — ухмыльнулся Эндерби, — что буду в нем писать. В котором они читают, имею в виду. То есть ваша жена, я так понял, Эди, не читает, а вон та, другая, читает, понятно?
— Хватит нам тут насчет не читает, ладно? — отозвалась Эди. — И хватит меня по имени называть, ладно?
— Слушай, — подхватил муж Эди, — прибереги это все для салуна, где за такие вольности лишний пенни приплачивают, ладно? А нам тут такого не надо.
— Я никому ничего плохого не сделал, — обиделся Эндерби. Потом залил обиду струйкой сладкого соуса, заискивающе добавив: — Я хочу сказать, просто беседовал. — И расплылся в улыбке. — Просто чтоб провести время, если вы меня понимаете.
— Ну, — предупредил метатель дротика, — только не пробуй проводить время с моей миссис, ладно?
— Ладно? — почти в унисон аукнулась Эди.
— Я с ней время проводить не желаю, — гордо заявил Эндерби. — Большое спасибо, мне другие дела надо делать.
— Вот я тебя сейчас сделаю, — искренне посулил мужчина. — Слишком уж ты воще разорался, приятель, как я посмотрю, черт возьми, вот что. Проваливай лучше отсюда, покуда я в самом деле не разозлился. Вылетишь за порог, будешь знать.
Прррфффп.
— Слушайте, — начал Эндерби, — это не специально, я правда не собирался, никак не задумывал в качестве комментария, уверяю вас, подобные вещи с каждым могут случиться, с мужчиной и с женщиной, даже вот с Эди, с вашей женой, так сказать, включая и вас самого. — Прррфффп.
— Ладно, — сказала Эди.
— Вот у меня тут кулак, — объявил мужчина, сунув в карман дротик. Другие посетители притихли, заинтересовались. — Получишь прямо в моську, прямиком, если сейчас же с глаз моих не сгинешь, черт возьми, ладно?
— Я как раз ухожу, — с достоинством проговорил шатавшийся Эндерби. — Если вы мне окажете милость и разрешите допить.
— Хватит с тебя, приятель, да, — сказал мужчина немного повежливей. Из салуна донеслось объявление о приеме последних заказов. — Если хочешь залить свое тайное горе, только не в том же месте, где я со своей женой, понял, потому что мне сильно не нравятся вещи такого типа, как ты говоришь, понял. — Эндерби поставил стакан, бросил на мужчину с дротиком остекленевший, но честный взгляд, потом сильно, хотя и беззлобно рыгнул. Поклонился и, вежливо проложив себе путь сквозь долгопьющих, жаждущих принять на посошок, не без величия удалился. На улице его ударил крепкий, как «Гиннесс», пьянящий рефрижераторный ночной воздух, и он пошатнулся. Мужчина с дротиком вышел следом и остановился, взвешивая и оценивая.
— Слушай, приятель, — окликнул он, — это на самом деле не от меня, я ведь и сам такой часто бываю, бог свидетель, однако жена моя требует, понял, вроде подарок на память. — Наклонился и, наклоняясь, неожиданно вывернул влево торс, будто прислушивался к чему с той стороны, после чего вынес левый кулак и корпус вправо, вверх и не слишком сильно вмазал Эндерби прямо в желудок. — Вот, — довольно доброжелательно заключил он, как будто удар задумывался чисто терапевтически. — И хватит, правда?
Эндерби хватал ртом воздух. Вечерняя процессия виски и пива болезненно следовала через новый вкусовой орган, сооруженный нарочно для такого случая. Во время следования выпитое страдальчески гримасничало, страдальчески приседало в поклоне. Газ, огонь вырвались, точно из гейзера, грубо разорвав чистый воздух. Предвкушение рвоты съежилось, затрепетало. Эндерби шагнул к стене.
— Стой-ка, — окликнул мужчина, — тебе куда надо-то, а? Ты сейчас в Кеннингтоне, если не знаешь.
— Виктория, — проговорил газ в желудке у Эндерби, сформированный в слово языком и губами. Воздуха в данный момент у Эндерби не было.
— Очень просто, — любезно объяснил мужчина. — Первый направо, второй налево и прямо, придешь на станцию Кеннингтон, понял? Сядешь в поезд до Чаринг-Кросс, вторая остановка, а Ватерлоо первая; на Чаринг-Кросс пересядешь, понял, на кольцевую линию. Вестминстер, Сент-Джеймсский парк, потом твоя, понял? И всего наилучшего, и без всяких обид. — Потрепал Эндерби по левому плечу и снова зашел в общественный бар.
Эндерби еще хватал ртом воздух. Подобных вещей не случалось с ним со студенческих лет, когда его в пабе однажды побили пианист с приятелем за дьявольскую саркастичность по поводу псевдомузыки, исполнявшейся пианистом в пивной. Эндерби глоток за глотком наполнил кашлявшие легкие, потом призадумался, хочет ли в самом деле стошнить. В данный момент подумал, что нет. Удар в живот еще горел, дымился; название ЛОНДОН мерцало страшными пламенными языками, как на афише какого-то фильма про девушек по вызову или про конец света. Он видел себя в безопасности в своей уборной, работавшего над стихами. Больше никогда. Больше никогда, никогда. Женские институты. Золотые медали. Лондонские пабы. Капканы, расставленные на бедного Эндерби, силки, ожидающие, когда он пустится в путь.
Он без особых трудов добрался до станции Кеннингтон и приобрел билет до Виктории. Сидя в поезде подземки напротив косоглазого мужчины, который разговаривал по-шотландски с благодушным терьером, устроившимся у него на коленях, Эндерби чувствовал себя на палубе, понимая, что скоро придется стрелой мчаться к поручням. Ему почудилось, будто дальше по той стороне, где сидел он, два жевавших резинку тинейджера обсуждают пьесу Кальдерона. Напрягся, прислушался, чуть не свалился на правое ухо. На Ватерлоо точно слышал, как шотландец со страбизмом сказал псу: «Утро ясное». В желудке у Эндерби бил барабан и трубила труба; здесь надо, наверно, признать поражение, выйти, стошнить в пожарное ведро. Слишком поздно. Поезд и время строем двинулись от Ватерлоо, под реку; слава богу, вот и Чаринг-Кросс. Кроссоглазый мужчина тоже вышел, с терьером.
— Принял глоточек, — конфиденциально поведал он Эндерби и направился на линию Бейкер-лоо; пес семенил следом лапками, толстозадый, с веселым хвостом. Тут Эндерби себя почувствовал решительно плохо и запутался. У него сложилось ошибочное впечатление, будто с южной платформы вот этой вот Северной линии его доставят куда надо. Доковылял и сел на скамейку. Плакат поперек колеи изображал мужчину, пившего на открытом воздухе молоко, с красивым мускулистым горлом, напрягшимся жилами при энергичных глотках. Рядом клеевой краской нарисован уверенный в себе молодой человек, боровшийся с приятной девушкой за кусок пирога с мясным экстрактом; рисунок оживлен смехом и облачками пара. Рядом рыжий ребенок-макроцефал радостно тянет: «Ооооооо!» — щеку его оттопыривает кусок супер-сливочной ириски. Эндерби рыгнул, но память подсказала пьяное четверостишие, написанное им в пьяной молодости:
Шел я, шел, пути-дороги путая,
И, многократно пукая
Всеми кишками, штаны обливал,
Опускал низко голову и…
Оно отбросило нынешнюю тошноту в прошлое и вдобавок обезличило. Утешительное искусство. И вот далекий Минотавр ревом поезда подземки насторожил других ожидавших на той платформе. Какой-то мужчина сложил вечернюю газету, сунул в боковой карман пальто. «Поэт требует честной игры», — прочел Эндерби. В тот день поэты вышли на поле. С грохотом вылетевший на открытое место поезд подземки принес дивный порыв арктического воздуха, пошедшего на пользу Эндерби. Он стоял с головокружением, но с железной решимостью доехать до Виктории, в своем шальном состоянии представляя вокзал некой очень большой и желанной уборной со взрывами и сернистым водородом. Широко расставил ноги перед еще неоткрывшейся двустворчатой дверью вагона, стараясь утихомирить беспокойную платформу, пока ожидавшие выхода пассажиры стояли, словно вызванные под занавес на поклон. Потом, когда двери открылись и оттуда хлынули пассажиры, Эндерби обуяли папические сомнения.
— Это, — крикнул он, — поезд до Виктории? — Многие выходившие по-английски не говорили, делали виноватые жесты, но холодный женский голос сказал:
— Этот поезд, мистер Эндерби, определенно не до Виктории. — Эндерби заморгал на явление миссис как-ее-там из «Фема», вдовы аса-гонщика, в облегающем спереди платье из яблочно-бледно-зеленой полуофициальной тафты под шубкой из персидского каракуля длиной три четверти, с марказитовой брошью — единственным изысканным украшением платья, — в крошечных обручах-серьгах из марказита, на высоких глазированных каблуках цвета марказита, с чисто поблескивающими волосами цвета пенни. Рот у Эндерби по-бараньи открылся. — Если сядете на этот поезд, — продолжала она, — то доедете до Ватерлоо и Кеннингтона, Тутинг-Бека, в конце концов, до Мордена. Судя по вашему виду, в Мордене вы бы очнулись. В Мордене вам бы не очень понравилось.
— Вас, — сказал Эндерби, — тут быть не должно. Вы должны быть где-то на обеде.
— Я была на обеде, — сказала она. — И как раз возвращаюсь из Хэмпстеда. — Двери поезда, скользнув, задвинулись, поезд тронулся в свой туннель, подняв ветер, который шевельнул ее волосы и заставил повысить голос, отчего шотландские интонации стали отчетливей прежнего. — И, — добавила она, оценивая шатавшегося Эндерби трезвым зеленым взглядом, — направляюсь на Глостер-роуд домой. Значит, мы с вами можем сесть в один поезд, поэтому я прослежу, чтобы вы на Виктории вышли. Начиная с Виктории вы останетесь на попечении тех богов, которые пекутся о пьяных поэтах. — Было в ней что-то от тонкогубого кальвиниста; в тоне никакого насмешливого снисхождения. — Пойдемте, — сказала она, беря Эндерби под руку.
— Если не возражаете, — молвил он. — Если лишь на минуточку извините меня… — Эндерби, зеленей зелени, удалось поймать краткий поток в платок для красоты. — О боже, — сказал он. — Ох, Иисус, Мария и Иосиф.
— Пойдемте, — повторила она. — Шагайте. Дышите поглубже. — И твердо повела его к кольцевой линии. — Плохо вам, да? — Все ее ароматы не смогли подсластить позор Эндерби.
Эндерби вернулся на Фицгерберт-авеню, 81, полностью, наконец, протрезвев с помощью двух шлепков на задницу на замерзшей дороге со станции. На той самой ушибленной заднице он сидел на ступеньках и плакал. Лестничный пролет шел вверх, начинаясь у входной двери квартиры Эндерби, к площадке с зеркалом и пальмой в кадке. Дальше темная нехорошая лестница без ковра к квартире наверху, где жил продавец с женщиной. Эндерби сидел и плакал потому, что забыл ключ. Наверно, взбудораженный утренним посещением миссис Мелдрам, не переложил его из кармана спортивной куртки в соответствующий карман пиджака от костюма Арри. Уже минул час ночи, слишком поздно звать миссис Мелдрам, чтоб та ему открыла своим ключом. Денег на номер в отеле нет; спать под навесом на эспланаде чересчур холодно; он даже не думал проситься в камеру в полицейском участке (там легавые с преступной внешностью, с широкими мальчишескими ремнями). Лучше сидеть тут, на третьей ступеньке, в теплом пальто с шарфом, попеременно плакать и курить.
Курева оставалось не так уж и много. Миссис как-ее-там из «Фема» забрала остававшуюся у него пачку дешевых матросских сигарет (у нее кончились, а другого она ничего не курила) в награду за стоическую шотландскую толерантность к его желанию стошнить на палубу поезда подземки всю дорогу до Виктории. Эндерби предстояло продержаться до позднего зимой рассвета на пяти «Сениор Сервис». Он поплакал. Запредельно устал, чтоб заснуть. День был долгим и полным событий, мучительно изнуряющим. Даже на обратном пути в поезде к дому на побережье казалось, будто вагон полон мокрогубых поющих ирландцев. А теперь холодная лестница, долгое бдение. Он завывал, словно зачарованный луной гончий пес.
Дверь квартиры наверху скрипуче открылась.
— Ты, Джек? — хрипло шепнул женский голос. — Вернулся, Джек? — Произношение не лишено сходства с Арри: вирнулси, Жек. — Прости, Джек, — сказала она. — Я это не по правде сказала, любовь моя. Иди ложись, Джек.
— Это я, — объявил Эндерби. — А не он. А я. Без ключа, — добавил он.
— Кто — я? — уточнила женщина. Лампочка на площадке давно перегорела, много месяцев назад, а новую миссис Мелдрам не вкрутила. Ни один из них не видел другого.
— Я, снизу, — объяснил Эндерби, легко впадая в простонародный тон. — Не он, с кем вы живете.
— Он ушел, — разнесся вниз по лестнице голос. — Все говорил, уйду, и ушел. Мы немножко полаялись.
— Хорошо, — сказал Эндерби.
— Что значит — хорошо? Мы немножко полаялись, а теперь он ушел. Спорю, к сучке отправился у декоративных садов.
— Не имеет значения, — сказал Эндерби. — Вернется. Все так делают.
— Нет. Нынче не вернулся. А я боюсь там наверху одна.
— Чего боитесь?
— Одна. Я ж говорю. Да еще в темноте. Свет потух, пока мы лаялись, я даже и не видела, куда в него бить. Боб[40] есть? Дашь мне до завтрашнего утра первым делом?
— Ни сосиски, — с гордостью ответил Эндерби. — Все угрохал на выпивку в городе. Пожалуй, лучше поднимусь, — отважно решил он. — Могу на диване спать или еще где-нибудь. Ключ забыл, понимаете. Чертовская досада.
— Если сюда поднимешься, лучше смотри, чтобы Джек до тебя не добрался.
— Джек отправился к сучке у декоративных садов, — напомнил Эндерби.
— А. Так ты его видел, да? Так я и знала. Корни сплошь черные, сука она и есть.
— Я уже поднимаюсь, — сообщил Эндерби. — Тогда не будете одна бояться. Есть у вас там диван? — спросил он, страдальчески поднимаясь, ползя вверх по лестнице.
— Если думаешь со мной в койку лечь, чего-нибудь другое придумай. Я с мужчинами кончила.
— Даже не собираюсь с вами в койку ложиться, — возмутился Эндерби. — Просто на диван хочу лечь. Фактически, не совсем хорошо себя чувствую.
— Чего тебе хорошо себя чувствовать, когда ты свой чертов нос вот так вот задираешь? Я с такими мужиками ложилась, не тебе чета. Тише, — предупредила она, когда Эндерби споткнулся о жестяную кадку с пальмой на площадке. Он вслепую преодолел второй пролет, цепляясь за перила. А наверху столкнулся с грудастым теплым телом. — Ну-ка, брось для начала, — сказала она. — Чересчур для начала торопишься. — Резко принюхалась и заметила: — Дорогой какой запах. Ты с кем был-то, а? В тихом омуте черти водятся, если ты и впрямь тот, кто говоришь, то есть который внизу живет.
— Где? — буркнул Эндерби. — Просто хочу где-то лечь. — Руки нащупали мягкость, ширину дивана, континуум, разорванный бутылочными формами (они звякнули) и полупустой коробкой шоколада (она зашуршала). — Прилечь, — поправился он, чтоб звучало попроще.
— Устраивайся поудобней, — с дьявольским сарказмом предложила она. — Если чего пожелаешь, звони, не стесняйся. Утром чай во сколько подавать? Мужчины, — молвила она, направляясь, видно, в свою спальню. Издала презрительный звук, достойный самого Эндерби, и оставила его в темноте.
Проснулся он с первым светом под ксилофон молочных бутылок и бессильный скрежет стартеров. Чмокнул губами, прищелкнул языком по твердому нёбу, ощущая свой рот — вульгарное сравнение, выплывшее из вульгарного шатания по пивным, — бандажом скапутившегося борца. Грубое сравнение приставило к носу пальцы жестом, который его мачеха называла «жирным салом», сделало древний римский знак, прыснуло, метнулось вверх по стене, словно ящерка. В пальто Эндерби себя чувствовал замерзшим и грязным, соответствуя комнате, которая теперь возникала картинкой на телеэкране, когда ящик в конце концов разогреется. С картинкой пришел звук: храп той самой женщины в соседней комнате. Эндерби с интересом прислушался. Он никогда и не знал, что женщины способны так громко храпеть. Мачеха, разумеется, могла крышу напрочь снести, но она была уникальна. Уникальна? Вспомнилось какое-то сортирное сочинение о том, что все мачехи — женщины, или все женщины — мачехи, или что-то еще, и тут вернулся весь день целиком, безусловно не скучный; вполне ясно припомнилось имя вдовы, угостившей его чаем и проводившей на станцию подземки к вокзалу Виктория: Веста Бейнбридж. Стыд согрел все тело Эндерби, потом в него, как в дверь, молотком стукнул голод. Постыдный день быстро маршировал, раздув ноздри в дурацкой ухмылке, неся знамя Святого Георгия. Шумно протопал, уютно примостился за потрескавшимся сервантом. Эндерби надел очки, с болезненной ясностью увидел пивные бутылки и старые «Дейли миррор», потом со скрипом и стонами потащился на кухоньку. Там было полно прямоугольных подносиков для еды у ТВ, а еще пустых молочных бутылок с осадочными архипелагами внутри. Эндерби выпил из крана воды, открыл буфет, вытер рот посудным полотенцем, нашел корнишоны. Съел несколько хрустких слизней и вскоре почувствовал себя лучше.
Перед уходом окликнул хозяйку, но та, не укрытая, распростершись, лежала на двуспальной кровати, тяжко трудясь во сне. Сиськи, как плохо застывшее бланманже, мягко дрогнули под просвечивающей ночной рубашкой, когда проехал грузовик. Черный дым волос на лице поднимался и опадал, слушаясь храпа. Эндерби накрыл ее стеганым пуховым одеялом, поклонился и ушел. Она не так стара, решил он. Глупая толстая девка, на злобу, фактически, не способная. Дала приют Эндерби; Эндерби этого не забудет.
Спускаясь по лестнице, встретил собственного молочника: пинта к дверям Эндерби, полпинты у нижней ступеньки. Молочник ухмыльнулся и дважды цокнул языком. Сколько открытий, столько и предателей. У Эндерби возникла идея.
— Пришлось наверху ночевать, — сообщил он. — Запер дверь от себя самого. В замках что-нибудь понимаете?
— Любовь потешается над слесарями, — сентенциозно заметил молочник. — Только проволочку поищу.
Через минуту пришел почтальон с купонами от «Литтлвудз»[41] наверх, ни с чем для Эндерби.
— Не совсем правильно, — критически объявил он. — Дайте, я попробую. — Тяжело дыша над замком, зондировал, вертел. — Идет, — пропыхтел он. — Полмоментика. — Язычок замка отскочил, Эндерби повернул ручку, дверь открылась.
— Весьма обязан, — сказал он, — вам обоим, джентльмены. — Не радовала его перспектива идти к миссис Мелдрам. Отдал им последнюю медь и вошел.
Ах, какое облегченье — вернуться. Эндерби сорвал с себя пальто, повесил в крошечной прихожей на крючок за левое плечо. Несколько заботливей снял позаимствованный у Арри костюм, аккуратно скатал его в ком. Положил до возврата на неубранную постель, надел свитер с высоким воротом. Вот теперь он одет для работы. Голые ноги прошлепали в гостиную, где сразу почуялось что-то новое. На столе лежало письмо, без штемпеля, а с самого стола были убраны вчерашние грязные утренние тарелки. Пнув электрокамин, Эндерби сел читать, озабоченно хмурясь. Письмо было от миссис Мелдрам.
«Дорогой мистер Э.!
Извините, я в ваше отсутствие огляделась, на что, как домовладелица, полное право имею, в конце концов. Ну, квартиру вы довели до полного безобразия, двух мнений быть не может, ванна полна клочков со стихами, а ванны делаются и устанавливаются вовсе не для того. Ковры тоже не чищены, мне стыдно было б кому-нибудь их показать. Так вот, слова мои по-прежнему в силе, плата с будущего месяца повышается, вам и так посчастливилось долго дешево жить, когда цены везде лезут вверх. Если не желаете, то знаете, что надо делать, у меня есть другие, которые будут дом как следует содержать и ждут не дождутся, чтоб въехать через неделю. А за вами кто-нибудь должен присматривать, скажу, не ошибусь, мужчине в вашем возрасте, с вашим, как вы утверждаете, образованием, неестественно самостоятельно жить, чтоб никто в доме не убирал. Смело скажу, не стану молчать, когда надо громко сказать, вы должны жениться, пока не совсем пропали и погибли, как искренне думают многие, с кем я говорила.
С уважением
У. Мелдрам (миссис)».
Вот как. Эндерби яростно поскреб колено. Вот чего им хочется, да? Эндерби обихожен, посуда как следует вымыта, постель застилается регулярно, ванная — дивный сон с голубенькими занавесками и со щетками для спины, для ногтей, из щетинистого нейлона с пластмассовыми ручками в виде рыбьей чешуи; ванна всегда в ожидании здорового розового купальщика, распевающего сквозь пар ля-ля-ля. А у супруга Эндерби кабинетик-пенал для писания драгоценной поэзии, любимого конька муженька. Нет. Птичьи голоса завелись в голове: призывающие к осторожности голуби, предостерегающие грачи: берегись луговой травы, вдовы. Так, так, так, кричат утки: пей причастие выбора.
— Вот мой выбор, — твердо сказал Эндерби, идя на кухню завтракать (миссис Мелдрам, сука, вымыла его тарелки!) и заваривать мачехин чай. Надо отдать справедливость архетипичной суке, второй жене отца. Она сделала его жизнь несчастной; больше он ни одной женщине не предоставит такой привилегии.
И тем не менее. Тем не менее. Эндерби позавтракал сухим хлебом, клубничным джемом, чаем, потом пошел в рабочую мастерскую. Бумаги лежали нетронутые миссис Мелдрам; стол со специально укороченными ножками ждал его у глубокого пустого сиденья. «Ручной Зверь» медленно рос; томик из пятидесяти стихотворений, запланированный на осень, почти составлен. Первое дело, которое надо убрать с дороги, — сочинение новой любовной лирики из цикла «Арри к Тельме». Эндерби чувствовал себя виноватым за состояние костюма Арри. На коленях необъяснимо собралась грязь, лацкан непомерно запачкан, бритвенно-острые складки разошлись с немыслимой быстротой. Арри необходимо смягчить чем-то поистине ценным. Он жаловался на предметное содержание приношений Эндерби: слишком много кухонных сравнений, слишком косвенная апелляция к ее жестокому сердцу. Арри клятвенно утверждал, что она вслух читала оптовым торговцам автомобилями, и те ухахатывались. Долг Эндерби — написать нечто очень откровенное, нет, не грубое, не подумайте, но понятное, разъясняющее, чем именно Арри с ней хочет заняться, и чтоб она держала его под подушкой и вспыхивала, когда вытаскивает (пропитанное ее запахом). Эндерби думал, сидя на троне, что в закромах подходящее должно найтись. Покопался в ванне, нашел несколько очень ранних лирических стихов. Одно было написано в семнадцать лет. «Музыка сфер», называлось оно.
Вскину скрипку одним взмахом рук,
Так открой же ей слух, и поверь,
Издаст она идеальный звук:
Это звук моей музыки сфер.
Клянусь богом, ни Арн, ни Перселл
Не превзойдут мой пример.
Не требуется ни искусств, ни ремесел,
Чтоб играть мою музыку сфер.
Ценность ее не в безбрежности
С устрашающим дрейфом звездных озер.
В тонкости и немыслимой нежности
Заключается моя музыка сфер.
Сферы, что ее подпитывают,
Посылают мелодию вниз и вверх,
Постоянно безмолвно рассчитывают,
Что услышишь ты музыку сфер.
Опасения, страхи и вечное «нет» —
Это плод твоих девичьих лет.
Зачем дальше хранить глухоты обет?
Посмотри, как поля оживляет цвет!
Вместе с этой землей улучу я момент:
Дай мне аккомпанемент.
Адресованное предполагаемой девственнице, оно явно абсурдно для Тельмы. И не тяжеловат ли сферический образ для предположительно прилично воспитанной барменши? Неприличные шутки в баре одно дело, но неприличная литература, даже самый воображаемый намек на нее, — другое. До сих пор болевший живот это удостоверил.
Семнадцать. Дата сочинения проставлена в конце рукописи. Кому оно написано? Он подумал, почесываясь. И мрачно решил — никому. Но не грезилось ли в том самом романтическом возрасте о неком создании с веткой кипрея, которое, даже будучи бесконечно утонченным, благоухающим сладко, как май, не оскорбится слишком легко поддающимся расшифровке символом домогательства? Он создал в душе образ девушки, как мистический образ Бога, в понятиях, которым она не должна соответствовать, а именно, соответствовавших его мачехе; потом положительный образ родился из длительных размышлений об отрицательных атрибутах. Потом она возникла во сне, тоненькая, смеющаяся, в первую очередь чистая. Не вдова: он отказывался позволять этому образу обретать краски и запахи миссис Бейнбридж.
Вздохнув, Эндерби принялся очень хладнокровно и целенаправленно, как за чистый поэтический экзерсис, писать в высшей степени эротический стих Арри к Тельме, полный бедер, грудей, задохнувшегося желания. Закончил, отложил в сторону, чтоб остыл, и продолжил строительство лабиринта, дома «Ручного Зверя».
Вот каков был распорядок обычного дня Эндерби: подъем на рассвете, а может быть, позже, одинаково зимой и летом; завтрак, испражнение, потом работа, которая иногда начиналась собственно при испражнении; в десять пятнадцать он брился, готовился выходить, зачастую с сеткой для покупок; в десять тридцать покидал квартиру, шел к морю, покупал батон, кормил чаек; сразу после пил утреннюю порцию виски со стариками и умирающими, или, если Арри не работал, с Арри в «Гербе масонов»; иногда наносил визит к Арри на кухню, получая от него обрезки для кладовой: индюшачий каркас, куски жирной свинины, кусок бараньей шеи на воскресный обед; потом, по мере надобности, делал покупки — батон для себя, картошка, десяток сигарет, пикули, пирожок с мясом, горчица за четыре пенни; возвращался домой и готовил еду, а когда со вчерашнего дня оставалось что-нибудь холодное, сразу ел и работал во время еды; дремал, сидя на стуле, или даже одетый сворачивался в постели, целенаправленно засыпал. Потом обратно в уборную, к последнему длительному дневному уроку; потом остатки еды или хлеб с каким-нибудь недорогим лакомством; на ночь чашка мачехиного чаю; постель. Никому не мешающий образ жизни. Капризная Муза время от времени нарушала порядок, забрасывая Эндерби стихами — фрагментарными или полностью сформированными, — и тогда среди виски, в постели, готовя, работая над структурой нелирических произведений, он сразу записывал под ее истерическую, хладнокровно пророческую или телеграфную диктовку. Музу он уважал, но капризов боялся: она бывала игривым котенком, тигрицей с выпущенными когтями, сосущим палец слабоумным ребенком или высокомерной богиней в бальном наряде эпохи Регентства, с непредсказуемыми настроениями и посещениями. Другие визитеры были более предсказуемы: диспепсия в разнообразных формах, ветры, икота. В тихие дни в промежутках меж явлениями небесных и земных откровений он жил одиноким и безобидным мужчиной. Письма и визитеры редко толкались в дверь, новости из опасного мира никогда не вторгались. Дивиденды и крошечные гонорары выплачивались прямо в банк, который он посещал лишь раз в месяц, покорно ожидая наличных с чеком, аккуратно выписанным на двадцать с чем-то фунтов, стоя за мытарями с бычьими шеями и аскетическими мясниками, необъяснимо вносившими долго пересчитывавшиеся кучи тусклой меди. Он никому не завидовал, кроме проверенно великих покойников.
Рутинный распорядок, уже возмущенный катастрофической поездкой в Лондон, еще сильней возмутило последствие этой поездки, а именно доставка большого пакета. На адресном листке напечатано «Фем» и представлено изображенье холеного, но идиотского личика молодой женщины, видно типичной читательницы «Фема». Углубившийся в свою поэму Эндерби получил пакет без брюк, разинув рот, потом побежал распечатывать с колотившимся сердцем в гостиную. Там оказался контракт на подпись и краткое письмо от миссис Бейнбридж, сообщавшее, что вот это контракт на подпись и старые номера «Фема». Писала она длинными жирными штрихами, официально, по-деловому, однако позволила писчей бумаге в высшей степени деликатно пропитаться своим ароматом. Эндерби обладал слабым чутьем, но весьма отчетливо уловил ее очень женственный образ. Вот так вот.
Эндерби мало что знал о журналах. Читал мальчишкой «Смешное кино» и «Забавные чудеса». В юности знакомился с поэтической периодикой и осиными воскресными обзорами левого крыла. В армии просматривал то, что обычно читают солдаты. В приемных специалистов сидел с каменным лицом над «Панчем»[42]. Ему было известно о послевоенном потоке дешевых журналов, изумлявших разнообразием специализации и количеством культов, которым служили. По его сведениям, два-три целиком посвящались некому скончавшемуся знаменитому киноартисту, превратившемуся в какого-то задубеневшего божка; попадались на глаза другие, которые, каждый по-своему, прославляли живых молодых обормотов с гитарами — предположительно поименованных миссис Бейнбридж поп-певцами. Молоденькие девушки явно испытывают сильный религиозный голод, удовлетворить который, видно, могут лишь эти жалкие симулякры и их пресс-жрецы. Вдобавок у тех самых девушек водятся деньги, криком кричат, хотят потратиться, ибо, кажется, в нашу эпоху профессионалов в выигрыше лишь неумелые и безмозглые. Но и у мечтательных жен деньги есть. «Фем» с визгом дрался за их шестипенсовики, стараясь отпихнуть локтем «Женственность», дать по зубам «Прелести», содрать корсет с «Женушки», выдрать волосы «Блонди» за черные корни.
Эндерби удобно уселся за чтение «Фема». Под его аденоидное сопение над содержимым шло время, навсегда, безвозвратно потерянное. На обложке девичье лицо, характерно и утомительно симпатичное. Пролистывая лежавшую у него на коленях кипу, Эндерби заметил, что на обложке каждого номера лицо молодой женщины, возможно, всегда одинаковое, хотя точно не скажешь. По его догадке, мужские журналы предпочитают изображать на обложке женщин от шеи и ниже. Справедливое разделение. Почитал письма читателей: чья-то маленькая девочка спрашивает, не живет ли Бог в самолете; как превратить старую банку из-под джема в изящную вазу с помощью лака для ногтей четырех разных оттенков (всего 8 ш. 6 д.); ничего не прошу за благотворительный акт, кроме милой благодарной улыбки; австралийский попугайчик миссис Ф. (из Ротрэма) умеет говорить: «Долли любит мамулю»; до чего глупыми, правда, бывают мужчины, предпочитающие держать картошку в ящике кухонного стола! (Эндерби серьезно озадачился: почему это глупо?) Печаталась история с продолжением под названием «Навеки и еще на день», обильно проиллюстрированная соблазнительной, но сомнительной новобрачной. Пятистраничная статья доказывала, что самостоятельно соорудить стеллаж для пластинок (или поручить это мужу или приятелю), не намного дороже, чем купить в магазине. Почти все рассказы, называвшиеся «Пылающее сердце», «Зачем ты оставил меня?», «Сочетаюсь с тобой», «Здравствуй, роман», были гарнированы изображением пар, вертикально прильнувших друг к другу. Энергично разогретая религиозная колонка популярного проповедника молодежных поп-певцов сопровождалась занимательным очерком о «Псах Королевы». Клиническая, леденящая кровь болтовня про опухоли, статьи о каблуках-шпильках, о приготовлении мармелада, как стать блистательной невестой. Эндерби долго сидел, увлекшись Особыми Кулинарными Рецептами, видя тут хотя бы способ усовершенствовать свою диету (завтра надо испробовать Апельсиновый Леденец). Его потрясли и растрогали письма, присланные Миллисент Добросердечной, даме с голубыми волосами, с острыми красными ногтями и мягкой улыбкой: «Он сказал, это искусственное дыхание, а теперь оказалось, что у меня от него будет ребенок»; «Я вышла замуж всего три месяца назад, но влюбилась в мужниного отца». Эндерби одобрительно кивал разумным ответам. Не следовало этого делать; мне ужасно вас жалко, милочка, но запомните, брак надо хранить.
Пали сумерки, он все читал, чтения оставалось еще очень много. Украдкой добрался до выключателя, чувствуя себя виноватым, оправдываясь за столь долгое увлечение: в конце концов, он для них писать собирается, должен знать их вкусы. Живот пробурчал, что им пренебрегают. Дома у Эндерби ничего не было, кроме хлеба, джема и пикулей; надо пойти купить чего-нибудь. Он размечтался о блюде, придуманном Джиллиан Фробишер, возглавлявшей кулинарный раздел «Фема»: Сюрприз из Спагетти с Сыром.
Вышел с сеткой-неводом, вернулся с фунтом спагетти, четвертью сыра и большой чесночиной за четыре пенса. (Рецепт предлагал в качестве альтернативы две крупные луковицы, но Эндерби испытывал непонятное нежелание заходить к зеленщику и просто просить две луковицы; экзотический чеснок — совсем другое дело.) Возбужденно сопя, принес нужный номер «Фема» на кухню, рабски следуя указаниям. Прочел: «Достаточно на четверых». А он только один-единственный, сам, проголодавшийся Эндерби. Значит, все надо делить на четыре. Взял фунт спагетти, разломал колючие палочки на маленькие кусочки. Взял сковородку (жалко, рецепт требует большую, глубокую; ну, ладно, не имеет значения), налил одну столовую ложку оливкового масла. (В буфете стоит почти полная чашка, остатки из банок с сардинами.) Бросил туда приблизительно четверть спагетти, зажег газ, начал медленно жарить, переворачивая и пошевеливая. Потом добавил две полные чашки воды, вспомнил, что надо делить на четыре, и немного воды слил обратно. Заглянул, пыхтя, в «Фем», пока сковородка тихонько кипела. Натереть сыр. Натер немного на терке миссис Мелдрам для мускатного ореха, бросил в варево. Теперь вопрос: лук или чеснок. «Две большие нарезанные луковицы, — говорит Джиллиан Фробишер, — или чеснок по вкусу». Эндерби взглянул на чеснок, зная, что он сильней лука; возможно, одна чесночина эквивалентна двум луковицам. Чистить надо? Не надо. Вся ценность в шелухе, к примеру в картофельной. Он искрошил чеснок, сначала по основе, потом по утку, и бросил кусочки в кипящую сковородку. Дальше. Смазанная маслом посуда. Отыскал на полке мутную огнеупорную миску «Пирекс», щедро смазал изнутри маргарином. Теперь переложить месиво из сковородки в миску. При переворачивании возникли определенные трудности: почему-то все к сковородке прилипло, пришлось энергично скрести, выскребывая то, что пожелало выскрестись. Месиво плюхнулось в миску. «Сверху смажьте сметаной», — говорит Джиллиан. Сметаны нет, но полно скисшего молока, сверху позеленевшего. Эндерби увенчал блюдо щедрой порцией свернувшегося молока, потом зажег духовку. Там оно должно готовиться на медленном огне минут двадцать. Со стоном сунул миску в духовку, пинком плотно захлопнул черную дверцу, потер руки.
Так.
Проклятье. Оказывается, не все последовательно разделено на четыре. Наплевать. И наверно, спагетти должны почернеть. Ходят слухи о модных ресторанах, где всевозможные вещи специально жгут на глазах у хладнокровно расположившихся за столом хорошо одетых людей. Он вернулся к электрическому камину и к чтению очередного номера «Фема». Поглазев остановившимся взором на рекламу супа с изображением чашки холодной крови, на рекламу яиц, где мертвенно бледный желток свешивался с подпиравшего его куска рыбы на сковородке, готовый упасть и стать светло-желтым, принялся за рассказ под названием «Ты мне не мила». Про стюардессу, влюбленную в капитана своего самолета, — тема для Эндерби новая. Он охнул на давно минувшие двадцать минут готовки по Джиллиан Фробишер, с икотой вскочил, вытащил из духовки Сюрприз из Спагетти с Сыром. Название неподобающим не назовешь. Сел, смакуя смешанные оттенки горелой муки и зверски кричащего чеснока, горячего, громкого, как взрыв ацетилена, при общем тоне оттенков утомительно тепловатом. Не совсем то ожидалось; ну ладно, Джиллиан Фробишер, наверно, знает, что делает. Эндерби покорно ел, часто глотая холодную воду. Следует изучить вкусы своих перспективных читателей.
Эндерби среди ночи проснулся, с сержантской резкостью выскочив из непонятного сна про кочергу. Боль была жуткая, хоть опасности не ощущалось. Выскакивал с вполне ясной головой; даже помнил имя проклятой женщины. Джиллиан Фробишер. В одном из Кулинарных Приложений была ее фотография: энергичная симпатичная девушка-еврейка с невозможно чистой сковородкой. Если он когда-нибудь до нее доберется, поклялся Эндерби, то запачкает эту самую сковородку, точно. Воспользуется случаем.
Сода разрушила боль, бросив ее осколки на ветры. Эндерби сел в гостиной, включил электрокамин. Три часа десять минут, говорили часы. Жуткое время. Наверху шумели, женский голос кричал, как бы сквозь муслиновый фильтр:
— Катись, слышишь? Выметайся, свинья.
Потом ропот мужского голоса, ниточные стежки тяжелых ботинок. Видно, Джек вернулся. Вскоре женская ругань ослабла, зазвучала с занимательной артикуляцией, как бы углом рта, короткими взрывами. Потом загромыхали пружины. Эндерби взял с дивана контракт, размышляя, подписывать или нет. Еженедельное изготовленье пакета рифмованных клише, пустая сентенциозная болтовня о далеких-предалеких звездах, о пухлых младенческих ручках, обнявших мамулю за шею; делай добро бедным, — не проституция ли? Стихи, написанные им Тельме от имени Арри, каковы б они ни были, — нет. Если не откровенно чувственные, то мягко ироничные: нечего стыдиться. Но разве предложение миссис Бейнбридж не демон, увлекающий прочь от истинного искусства звоном гиней, которые в любом случае целиком уйдут к миссис Мелдрам? Эндерби пошел в ванную посмотреть на сваленные в ванну многолетние труды. На протяжении последних полутора десятилетий приходилось перебираться из города в город, с квартиры на квартиру, но здесь он думал осесть. Нехорошо менять мастерскую посреди главного произведения. Под незаметным влиянием нового места меняется настроение, прерывается непрерывность. И только подумать об упаковке вот этой вот ванны в чемоданы, — с мышами, и с хлебными крошками, и со всем прочим. Вещи теряются, испытываешь искушение их выбросить. Но Эндерби, стоя босыми ногами, старательно размышлял, раздумывал, может быть, надо пойти на жертву. Съехать вверх-вниз по побережью подальше от миссис Мелдрам и — от гораздо более опасной личности, от вдовы, возлегающей средь луговой травы, — миссис Бейнбридж, хладнокровно элегантной, самоуверенной обожательницы его стихов.
В определенной мере он видел, что рационализирует свою боязнь связи с женщиной, вероятность начала внизу завершавшегося сейчас наверху. А еще опасенье — нередко ему досаждавшее, — что желание уклониться от всяческих связей отрицательно скажется на работе. Любовь к женщине всегда, по традиции, играла большую роль в жизни поэтов. Посмотрим, к примеру, на Гете, которому перед новым лирическим произведением обязательно требовалось новое любовное приключение. Эндерби, если германской культуре предстояло хоть как-нибудь повлиять на его эволюцию, выбрал влияние гораздо более строгой личности — Шопенгауэра. И Шпенглер, с его обещанием пройтись по вечерним полям, мог кое-что ему сказать. Перед сочинением стихов о сексе, о других людях он всегда обращался к обоим философам. Вспомнился типичный вечер военного времени, затемнение в гарнизонном городке, мозолистые руки, хватавшие в темноте хихикавшие тела.
Сатиры, нимфы вскачь летят,
Фавны в клубах пыли,
Срывает покрывало дня
С брюха грязный Вилли.
Вот прожектор рылом вертит,
Словно скальпель в ране,
Ждет, когда Wille начертит
Vorstellungen[43] на экране.
Шлюх залило серебром,
Все их прибамбаски
Обретают в свете том
Строгость, прелесть, краски.
Глянь! Взметаются ракеты!
Туго был экран натянут.
Но трагической параболой
Палки снова вянут.
Неромантическое отношение к сексу. Любовь, сказал, кажется, Шопенгауэр, один из бесконечных киносеансов — Vorstellungen, — устроенных грязным Вилли, желанием, — киномехаником и одновременно менеджером, когда вялые тела жвачных смехунчиков проецируются на тугие сияющие экраны, представляясь некой реальностью, ценностью. Но дефляция, тяготенье к земле после соития, устрашают; видишь обесценившиеся слова желания — так скоро после произнесения, — такими, каковы они есть. Случайные образы онанизма не доставляют страданий, не лгут.
Эндерби вернулся в гостиную. Снова началась изжога, подобно предродовым схваткам. В стакане еще оставалось полно растворенной соды, поэтому не прошло полминуты, как ему удалось гулко буркнуть:
Грерррбругаррргаууууупфффф.
Последовал немедленный ответ сверху: трижды стукнул предостерегавший башмак. Эндерби кротко глянул в потолок, как бы на ворчавшего Бога. Пора переезжать. Услыхал что-то вроде:
— Заткнись, Эндерби.
Потом женский голос сказал:
— Оставь его в покое. Он тут ничего поделать не может. — Дальше началась очередь неразборчивых слов, закончившись криком Джека:
— Ах, вот как, да? А чья была идея? Ах ты, лживая сучка, скажешь, нет?
Ясно, уныние после соития. Эндерби уныло качнул головой и опять лег в постель. Он за неделю предупредит миссис Мелдрам и не подпишет контракт с миссис Бейнбридж. Пускай миссис Мелдрам покроет убытки за счет бесцветного улыбчивого молодого мужчины, который моется в ванне; если в «Феме» не появится еженедельное стихотворение Эндерби, вряд ли его читатели с крепким желудком расстроятся.
Все решилось. Утро принесло письмо от Весты Бейнбридж:
«Дорогой мистер Эндерби!
Ну, похоже, хороших вы дров наломали во время визита в Лондон. Мне сейчас только в руки попалась вечерняя газета за тот достопамятный день, которая, хоть и кратко, довольно ясно сообщает, что вы решили соригинальничать и поссориться с неким рыцарственным покровителем вашего искусства. Признаюсь, в определенном смысле я восхищена вашим независимым поведением, хотя, бог знает, может ли хоть один современный поэт позволить себе подобную байроническую роскошь. Сэр Джордж, как я слышала, сильно уязвлен и рассержен. Что это на вас нашло? Просто не пойму, впрочем, я ведь самая обыкновенная личность без особых претензий на интеллект, никогда самонадеянно не сочту себя способной проникнуть в мысли поэта. Факт остается фактом, и, смею сказать, о нем вы очень скоро услышите от своего собственного издателя: ваше имя отныне весьма дурно пахнет для „Хороших Книг Гудбая“, поэтому ходите теперь, да оглядывайтесь.
Полагаю, в таких обстоятельствах было бы лучше печатать ваши еженедельные излияния под псевдонимом. При этом мы также получим возможность украсить публикацию снимком какого-нибудь длинноволосого натурщика с пером в руке, с воздетым к небесам мечтательным взором; вы понимаете, что я имею в виду: Поэта, каким его видит каждая домохозяйка. Можете предложить псевдоним? Подпишите контракт и пришлите. Я действительно с удовольствием пила с вами чай.
Ваша Веста Бейнбридж».
Эндерби в ярости трясся, комкая писчую бумагу хорошего качества. Швырнул письмо в унитаз, дернул цепочку, но бумага была слишком плотной, чтоб смыться. Пришлось ее вытаскивать, мокрую, нести на кухню, бросать в старый картонный мусорный ящик с банками из-под сгущенного молока, рыбьими костями, картофельными очистками, чайными листьями. Через час мрачных раздумий, попыток продолжить работу он почувствовал побуждение перечитать письмо, что и сделал, сплошь облепленное чайными листьями. Хороших дров наломал в Лондоне в достопамятный день хоть и кратко байроническая роскошь независимое поведение каким его видит каждая домохозяйка Веста Бейнбридж. Эндерби стоял, хмурился, читал в крошечной прихожей, щурился на слова, потому что там было темно. Вдруг раздался двойной стук в дверь, точно горилла в грудь себя била, и он с удивлением поднял глаза.
— Выходи, Эндерби, — прокричал голос Джека. — Хочу словом с тобой перемолвиться, Эндерби, поэт хренов.
— Вали отсюда, — рявкнул Эндерби, вполне в духе своей мачехи и с ее интонациями.
— Выходи оттуда, Эндерби. Выходи и дерись, будь мужчиной. Открывай дверь, я тебя отлуплю, сволочь.
— Нет, — отказал Эндерби, — не открою. А если открою, то пожалею об этом. Знаю наверняка. Не хочу пачкать в твоей крови руки.
— Эндерби, — заорал Джек, — честно предупреждаю. Ну-ка, открывай, и я тебя отделаю, поэт-блудодей. Я тебе дам, с моей женой спать, а еще педрилой прикидывался.
— Она тебе не жена, — заметил Эндерби. — И я спал на диване. Меня кто-то оклеветал. А теперь убирайся, пока я не рассердился.
— Пожалуйста, открой дверь, Эндерби, — умолял голос Джека. — Я тебя отделать хочу, только правильно и справедливо, ты, сволочь, а я уже на работу опаздываю. Открой, и покончим на этом. — И грохнул в дверь обеими руками. Сверху послышался женский голос, и было в нем нечто, четко рисующее образ женщины в ночной рубашке с накрученными на бигуди волосами.
— Прекрати, Джек, — кричала она. — Только сам себя дураком выставляешь.
— Дураком, да? Скоро увидим. А теперь заткнись. Ты свое получила, теперь черед Эндерби. — И Джек снова заколотил.
Эндерби пошел на кухню, вернулся с ножом для потрошения зайца.
— Открой, Эндерби. Пришло твое время, сволочь.
И Эндерби открыл.
Джек был крепким моложавым мужчиной с морщинистыми щеками и с глазами цвета мочи. Если бывают проволочные волосы, на голове у него росла черная проволока. Оба кулака наготове, большие пальцы из предосторожности сунуты внутрь. Эндерби получил удар в живот в Лондоне; здесь получать удары он не собирался. И замахнулся ножом. И сказал:
— Только пикни.
— Игра нечестная, — заявил Джек. — Я имел в виду чистую драку. Нехорошо с твоей стороны выходить с этой колющей птичкой. Я только хотел сказать, оставь ее в покое там наверху, да разок в зубы как следует дать, черт возьми, да и дело с концом. Тебя не просили ходить пакостничать с моей собственностью, ты сам первый должен признать. Теперь будь мужчиной, положи нож, прими, что тебе полагается.
— Только пикни, — предупредил Эндерби в позе убийцы. — У меня ключа не было, вот и все, и она разрешила мне спать на диване. Если не веришь, то можешь никогда ничему не верить.
— Я верю тому, чему верю, — с колоссальной искренностью объявил Джек. — Мы с тобой еще встретимся. Не думай, будто вот так вот отделаешься, потому что так, Эндерби, ты не отделаешься, поэт или не поэт. Я сейчас на работу иду, и к тому же опаздываю, причем по твоей вине, что ухудшает дело. — И неожиданным резким рывком с завершающим стильным броском вывернул нож из руки Эндерби. Потом с гордостью посулил: — Ну вот. Сейчас получишь. — Эндерби быстро захлопнул дверь. — Я вернусь, Эндерби, — крикнул Джек. — Можешь не сомневаться. Тебе конец, двух мнений быть не может, увидишь. — Пнул дверь Эндерби, с грохотом понесся из дома, накрепко хлопнув дверью в подъезде.
Дрожавший Эндерби закрылся в уборной. Canaille, canaglia[44], вместе с их чертовым сексом и с ревностью, чтоб ее разразило. Что ж, настала пора, все на это указывает: вон, вон, вон. Куда теперь? Он сел и нацарапал: (а) взять в банке наличные; (б) раздобыть карту южного побережья; (в) послать миссис М. чек и предупреждение за неделю; (г) написать миссис Б.; (д) повидать Арри. В связи с необходимостью составлять планы, с мыслью о предстоящей кошмарной упаковке вещей он все больше волновался. Попробовал успокоиться, написав финальный заключительный стих для Арри, завершающий цикл. От стихотворения несло горячими руками, белой плотью, хриплым желанием, любовью, любовью, любовью. Стих произвел на Эндерби определенный катаррический эффект, вроде громкой богохульной непристойности.
…И в последнем безумии страсти
Твой образ пылает. Любовь — ослепительный град,
От любви голосят петухи, любовь пылью забивает пасти,
Что вопят, разрываются, жаждут боли и прочих наград…
Он выписал чек для миссис Мелдрам, составил кратчайшее прощание: «Благодарю за непрошеную заботу. Примите предупреждение за неделю. Ваш и пр.» Написал миссис Бейнбридж, куртуазно выразив признательность за весточку и сожаление, что по зрелом размышлении счел для себя невозможным удовлетворение скудной потребности читателей «Фема» в поэзии, ежели таковая вообще существует. Не окажет ли миссис Бейнбридж любезность передать от него мисс или миссис Фробишер привет и поздравления с крепким желудком последователей ее кулинарной колонки. Он, Эндерби, если это кого-либо интересует, чрезвычайно пострадал от Сюрприза из Спагетти с Сыром. Он намерен разорвать контракт и раздать номера «Фема» бедным. Искренне ваш. Постскриптум. Он с данной квартиры съезжает, пока неизвестно куда. Отвечать нет смысла. Теперь, несколько успокоившись, Эндерби побрился и приготовился выйти. Он в безопасности, пока крикун Джек на работе.
Арри в грязном поварском белом с белой шейной повязкой, в белой шляпе грибом, стоял у стойки бара в «Гербе масонов», отдыхая от кухни. Он приветствовал Эндерби без всякого энтузиазма, но, не спрашивая, не дожидаясь просьбы, заказал ему двойной виски.
— Костюм, — сказал он, — одна грязь, черт возьми. Пришлось в чиску сдать. — И выпил добрые три четверти пинты темного эля, смешанного с горьким.
— Виноват, — признал Эндерби. — Больше не повторится. Больше не буду одалживать. Переезжаю.
— Переежаешь? Сваливаешь? Больше тебя тут не бует?
— Правильно.
Арри помрачнел, однако под застывшей, как корка, миной, кажется, пряталось крошечное ощущение облегчения; дуновение облегчения как бы вырывалось через паровой клапан в корке.
— Куда? — полюбопытствовал он.
— Не знаю, — сказал Эндерби. — Куда-нибудь еще на побережье. Собственно, куда — не имеет значения.
— Убирайся подаааальше, — посоветовал Арри, удлинив гласные, как в каком-нибудь примитивном языке, — подаааальше, — подчеркивая расстояние, — подаааальше, — высказывая ономапоэтическое предложение, — как токо моно, будь я проклят. Ничего тут хорошего нету ни для кого. Суда, — сказал он, — никода больше не возвращайся. — Мрачно глянул на лесбиянок в углу — Глэдис в очках, косоглазая Пруденс в леопардовых лосинах, тесно обнявшиеся, — потом с состраданьем на Эндерби.
— Фактически попрощаться пришел, — сказал Эндерби, — надеюсь, с комплектом все будет в порядке.
— Бует в полном порядке, как токо из чиски вернется.
— Я другой комплект имею в виду, — пояснил Эндерби, — Арри к Тельме. Я еще один стих принес, самый последний в цикле. Если не подействует, то уж ничего не подействует. — И вытащил свернутый лист из кармана.
Арри покачал головой.
— Не дейсвует, — сказал он, — нискоко не дейсвует. Токо чертовская трата времени с моей стороны.
— С моей тоже, — заметил Эндерби.
— Руки-крюки, да зубы меж ногами, — сказал Арри. — Ничего хорошего для мущины в этой зверюге Тельме. Кто никакого внимания не обратила, и дале не обратит.
— Ну, — вздохнул Эндерби, — значит, так. Никому нынче поэзия не нужна. Все зря. — И приготовился разорвать последнее пламенное приношение.
— Не зря, — возразил Арри. — Парочка жареных. Мне понравилось. Да у нее ума никакого, черт побери, — сказал он. Протянул чистую поварскую руку, спас стих Эндерби. Забрал сложенный лист, с праздным интересом развернул. Прикинулся, будто читает, потом сунул в брючный карман.
Эндерби угостил его пинтой темного эля с горьким. И сказал:
— Пока я здесь жил, ты был моим единственным хоть каким-нибудь другом. Поэтому хочу пожать тебе руку перед уходом.
— Скоко хочешь, — сказал Арри и протянул ему руку. — Кода сваливаешь?
— Еще вещи надо собрать, — сказал Эндерби. — А потом решить, куда ехать. Завтра, наверно. Когда Джек на работу уйдет.
— Какой еще Жек?
— Ах да, прошу прощения. Тип сверху. Думает, будто я спутался с женщиной, с которой он живет.
— А, — сказал Арри, качнул головой, потом взглянул на Эндерби с возобновившимся состраданием. — Как моно скорей линяй, — посоветовал он. — Вещи кинь в сумку и вали на станцию Виктория. На станции Виктория указатели всяких разных мест. Там и выберешь. Полным-полно. Выбери самое лучшее и прямиком двигай. Нынче везде одинаково, — заключил он. — Без остановки переежать — хорошее дело. А, — полюбопытствовал он, — чего будешь делать, кода приедешь туда, куда едешь? В те же самые игры играть?
— Больше я ничего не умею, — признал Эндерби. — Создан только стихи писать.
Арри кивнул, прикончил пинту, четвертую с появления Эндерби.
— Токо лишнего не пиши про спагетти, — посоветовал он, содрогнувшись. — Оставь спагетти тому, кто чего-нибудь про них знает. — И еще раз пожал руку Эндерби. — Надо идти теперь, — сказал он, — на чертову работу. Специальный ленч для Дочерей Терпимости. — Слова расставил, как на плакате. — Поглядывай за собой, — сказал Арри. Помахал из дверей белой поварской рукой и ушел. Спагетти извивались, складывались в шарады в голове Эндерби. И тут его пронзила ужасная мысль. Он, трепеща, допил виски, потом успокоился. Должно быть, он отправил его миссис Мелдрам. Нет, отчетливо помнится чек, приколотый к четвертке писчей бумаги. Только это дела не меняет, правда? Все равно, могло не в тот конверт попасть. Надо убираться отсюда, очень-очень быстро.
Пока Эндерби пыхтел по эспланаде, спеша упаковываться, чайки колесили, кричали, карабкались по синей стене зимнего приморского дня. Он уже два дня их не кормит. Они жаловались, планировали. Жадные глазки-бусинки. Неблагодарные птицы. Не промяукали «до свидания»; будут ждать от него кусков хлеба там, дальше, вверх-вниз по побережью.
Из так называемых мирских ценностей Эндерби мало чего было укладывать. Проблема заключалась в полной ванне стихов. Опустившись пред ней на колени, как бы — тут он сардонически рассмеялся — поклоняясь собственным произведениям, принялся их запихивать в самый большой из двух чемоданов, отделяя — с разумной старательностью — рукописи от крошек сандвичей, сигаретных пачек, картонных цилиндриков из-под давно использованных рулонов туалетной бумаги. Но нашел столько старых, почти позабытых стихов, что не мог удержаться от чтенья с разинутым ртом, пока день тикал к сумеркам. Пришлось кардинально перерабатывать оригинальный план отъезда, задавшись теперь целью сесть на какой-нибудь вечерний поезд (с позволения Джека) до Виктории, провести ночь в отеле, потом, где-нибудь в середине дня, проследовать к какой-нибудь новой ступени на южном побережье. Он чувствовал, что должен жить у моря, гигантской сырой слюнявой мачехи или зеленой догматической Церкви, к которой можно было б присматриваться; тут хоть нечего ждать никакого коварства.
Поразительно, какие написаны вещи, особенно в юности: стилизация под Уитмена и Чарльза Даути, попытка перевода Duino Elegies, лимерики, даже начало пьесы в стихах про Коперника. Обнаружился один сонет с рваным ритмом, написанный александрийским стихом, датированный временами любви и зависти Эндерби к пролетариату. Он с ужасом и восторгом перечитал секстет:
Лишь когда воздух расцветет вокруг фиалками, он сможет
Стряхнуть с рук дрязь, на несколько часов хозяин собственной судьбе;
Наевшись от души, набивши трубку, ногу на ногу положит,
Согреется у кухонной печи. Осведомится о спортивных результатах и делах, рассмотренных в суде,
Поспорит, выпьет в погребке «У Льва», придет домой, рубца тарелочку наложит,
Или хрустящих чипсов, перед тем как лечь в бессонную постель сам по себе.
Как раз на реплику про возвращенье домой пришел домой Джек, полностью стряхнув с рук торговую дрязь, готовый встретиться с Эндерби. Эндерби вернулся из прошлого, когда в дверь грянули два горильих кулака.
— Давай, Эндерби, покончим с этим. За дело, Эндерби. Выходи, получи, чертов хренов поэт.
— Мой нож у тебя? — спросил Эндерби, стоя за своей побиваемой дверью.
— Твой нож, да? Брошен в мусорное ведро, ты, слизняк грязный, вот кто ты такой. Будет просто чистое битье, ты, поганая лживая тварь. Я тебя честно предупреждаю, Эндерби. Не откроешь, пойду за ключом к старой мамаше Мелдрам. Скажу, будто ты свой потерял, совру, как ты врешь, гнусный врун. Потом зайду и тебя сделаю. Поэтому открывай, как спортсмен, вступай в игру, получи взбучку, ты, педик.
Эндерби затрясся от злости и немедленно принялся шарить в квартире, ища какое-либо оружие. Тем временем Джек, справедливо устав на работе, колотил в дверь, сыпал грязными проклятьями. Взор метавшегося в ванной Эндерби моментально смягчился, наткнувшись на старого друга, седалище унитаза. Оно всегда было немножко расхлябанным и без труда снялось со стержня, который его удерживал на пьедестале.
— Иду, — крикнул Эндерби. — Минуты не пройдет. — Извинился перед деревянным О за грубый рывок, пообещав в возмещение написать вскоре оду. Вооруженный, направился к двери, распахнул, увидал кулаки Джека с заботливо зажатыми большими пальцами, готовые нанести яростный двойной удар в пустой воздух.
— Это нечестно, — попятился Джек. — Не по правилам игры, Эндерби. Я прошу только честного извинения за плохое ко мне отношение в связи с моей личной собственностью. («Ты пришел, Джек? — прозвучал сверху голос. — Не калечь его слишком сильно, любимый».)
— Не за что мне извиняться, — объявил Эидерби. — Если моим словам не веришь, так терпи последствия своего недоверия. Я сейчас дам тебе по башке вот этим вот седалищем.
— Только не этим, — запротестовал Джек, на пляшущих ногах, пытаясь наносить разрозненные удары. — Это смешно, вот что, это недостойно. Тогда все превращается в фарс. — Эндерби парировал слабые удары, крепко стукая по кулакам Джека своим деревянным орудием. Погнал его к парадному по коридору, мимо двух запятнанных картин на стене с изображением Северного нагорья в плохую погоду. Выше замахнулся седалищем с намереньем хрястнуть по проволочной голове Джека жестким ребром. Но чего-то не рассчитал, и седалище наделось Джеку на голову, обрамляя лицо, причем Джек превратился в чрезвычайно живой портрет в круглой раме в форме задницы. Он вцепился в раму руками, позабыв обрубить руки Эндерби, тянувшие вниз и вниз с тайной мыслью свалить Джека на пол, а потом наступить на него. — Сволочь ты, вот ты кто, — кричал Джек. — Нет, это совсем не смешно, ты, педрила. — Он пытался сорвать деревянный хомут, гладко отполированный ягодицами, но Эндерби всем своим весом тянул вниз и вниз. — Я только прошу, — пыхтел Джек, — извиненья за то, что ты сделал. Удовлетвори мою просьбу, и я тебя отпущу. — Эндерби развернулся, по-прежнему крепко схватившись за круглый позорный столб Джека, и увидал у подножия лестницы женщину Джека. Она была одета, как Гамлет, в черное трико с черным свитером, где после спуска по лестнице еще прыгали груди.
— Ты, — всхлипнул Эндерби, задохнувшись от таких усилий, — все это начала. Расскажи ему правду.
— Он меня отлупил, — сообщила она, — а я ничего плохого не сделала. Теперь только честно тебя отлупить.
— Скажи правду, — прокричал угасающий голос Эндерби.
— А Джеку без разницы, — сказала она. — Джек должен тебя отделать. Понимаешь, ему хочется.
— Я хочу, чтобы он извинился, — крикнул Джек, еще в раме.
— Не за что мне извиняться, — булькнул Эндерби, исчерпав запас воздуха.
— Ну, тогда извинись за то, что сейчас делаешь.
— Больше не буду, — сказал Эндерби, бросил деревянное седалище, и Джек, которого ничего теперь не тянуло, отлетел назад к шкафчику в вестибюле, ударился об него, опрокинул, оставаясь по-прежнему в хомуте. Звякнуло зеркальце шкафа; из открывшегося вдруг ящика посыпались письма, не полученные людьми, давно тайком отбывшими, и очень красочные купоны на стиральный порошок со скидкой в пять пенсов каждый.
— Делу, — попытался сказать Эндерби, вдвое согнувшись, будто должен был всасывать воздух с пола, — делу, — видя на полу Джека и валявшийся рядом сортирный хомут, деревянного родича упавшего шкафа, — конец.
— Иди наверх, любовь моя, — сказала женщина Джеку. — Ты устал после тяжелого трудового дня. Я налью тебе добрую чашечку.
Джек поднялся, стащил с себя хомут и, еще задыхаясь, протянул его Эндерби.
— Получил свое, — констатировал он. — Я не злопамятный, Эндерби. Чтоб все было по-честному, вот за что я выстою или паду в бою. — Он почистился щеткой из шкафчика, одетый в пальто тусклого сливового цвета. — Больше так не делай, вот все, что я теперь скажу, и пускай это будет предупреждение. — Женщина утешительно обняла его, повела вверх по лестнице. Обессилевший Эндерби зашел в собственную квартиру, держа седалище от унитаза, как венок победителя. Давно он так не напрягался. Пролежал, как минимум, час на полу в гостиной, разглядев, до чего грязен ковер. Под диваном лесные орехи, обрывки бумаги. Лежал, пока вдали, сквозь холодный вечерний воздух конца января, часы на муниципалитете не пробили семь. Теперь нет надежды сегодня уехать.
Почувствовав себя лучше, встал с пола и пошел на кухню заглянуть в буфет. Мало смысла и места, чтобы брать с собой полупустые банки и кусочки лярда в бумаге, картошку, ломаные спагетти, горчицу. Он вытащил самую большую кастрюлю миссис Мелдрам и приготовил похлебку из мясной пасты, бульонных кубиков «Оксо», спагетти, оливкового масла, картошки в мундире с грязью и прочим, маринованного лука, сырных корок, маргарина, соли с сельдереем, воды. Нашел в быстро опустевшем буфете забытую тушку цыпленка, подарок Арри, давно протухший. Оставив похлебку кипеть, бережливый Эндерби потопал обратно разбирать и укладывать свои бумаги.
Эндерби, обессилевший после драки, упаковки, густой, слишком сытной, приготовленной им похлебки, проспал утром дольше, чем намеревался. Труды по сборам и расчетам еще не закончены. Оба чемодана набиты, но еще множество рукописей надо было связать и оставить в каком-нибудь надежном месте. Зевающий и помятый Эндерби, со сбившимися в клочья во сне волосами, заварил чай из оставшейся половины пакетика «Тайфу», кофе из последних ложечек «Блу маунтин». Забрав молоко, оставил молочнику прощальную записку, несколько пустых бутылок и чек на пять шиллингов четыре пенса. Потом выпил одну чашку чаю, остальное вылил в унитаз, возгордившись собой, как бывало всегда, когда ему удавалось пустить в дело то, что другой мог просто выбросить. Разогрел вчерашнюю похлебку и снова себя похвалил, когда газ погас в середине процесса. Впустую опять ничего не потрачено. Он выключил в квартире все электроприборы, съел завтрак, выпил кофе, покурил. Потом в рубашке и в трусах (вчерашний ночной костюм — пижама уложена) высыпал мусор из картонной коробки в мусорный бачок за черной дверью. (Солнечно, пронзительный холод, тонко визжавшие чайки.) Выскреб коробку номером «Фема», столкнувшись с трудностями из-за забившейся по углам слизи от сгнившей кожуры и разрозненных иероглифов чайных листьев, застелил ее двумя-тремя номерами того же журнала, набрал охапки стихов из ванны, плотно их уложил, накрыл очередными «Фемами», перевязал коробку ненужными подтяжками и длинной узловатой веревкой, связанной из валявшихся вокруг обрывков бечевки. Вымыл всю посуду холодной водой (обязательно) и рассовал по полкам. Потом подвергся холодному и мучительному бритью, быстренько сполоснулся, надел повседневный рабочий наряд с вельветовыми штанами и галстуком. Было половина двенадцатого. По его мнению, скоро можно идти. Ключи, конечно. Он вышел в подъезд, обнаружил, что кто-то, предположительно Джек, поставил рухнувший шкаф на место, и положил ключи в ящик. На письме, адресованном давно исчезнувшей миссис Артур Порсрой (почтовый штемпель от 8.VI.51.), написал химическим карандашом: КЛЮЧИ ЭНДЕРБИ, — и вертикально поставил уведомленье на шкафчик. В это время открылась входная дверь. Заглянул мужчина. Он словно играл в затейливую игру, высматривая кого-то везде, кроме того места, где тот находился; скорбным взглядом обшаривал весь вестибюль, потом как бы в конце концов отыскал Эндерби. Мужчина кивнул, бледно улыбнулся, будто сдержанно поздравил себя с успехом, и осведомился:
— Не обращаюсь ли я к персоне по имени Эндерби? — Эндерби кивнул. — Не окажете ли мне любезность, разрешив перемолвиться с вами словечком? — продолжал мужчина. — По вопросу поэзии, — добавил он. Тонкий голос Урии Хипа[45], ростом ниже среднего, длинное лицо, пушок беловатых волос, дождевик, приблизительно одних лет с Эндерби.
— Вы от кого? — резко спросил Эндерби.
— От кого? — повторил мужчина. — Ни от кого, кроме самого себя. Я ношу имя Уолпол. Пришел вас повидать по вопросу поэзии. Холодно тут в подъезде, — намекнул он. Эндерби повел его в квартиру.
Уолпол принюхался к теплому сухому воздуху с застоявшимся запахом кислой похлебки и поднятой пыли, заметил упакованный багаж Эндерби.
— Уезжаете, да? — сказал он. — Ну, я как раз вовремя вас застал, не так ли?
— Я должен на поезд успеть, — объявил Эндерби, — с минуты на минуту. Не изложите ли…
— О, я быстро, — заверил Уолпол, — очень быстро. Хочу только сказать, не хочу, чтоб вы стихи писали моей жене.
Эндерби увидел промелькнувшую и растаявшую, весьма невероятную вероятность. Улыбнулся и сказал:
— Я ничьим женам стихов не пишу.
Уолпол вытащил из кармана дождевика тщательно сложенную и разглаженную стопку листков.
— Вот стихи, — сказал он. — Посмотрите внимательно и скажите мне, вы написали их или нет.
Эндерби быстро взглянул. Его рука. Стихи к Тельме.
— Да, это я написал, — признал он, — только не от себя. Я писал их по просьбе другого мужчины. Полагаю, фактически, его можно назвать заказчиком. Понимаете, поэзия — моя профессия.
— Если это профессия, — со всей серьезностью заметил Уолпол, — разве в ней не имеется, так сказать, профессионального этти кетта? А главное, так сказать, разве она не охвачена профсоюзом?
Эндерби вдруг увидел, что его сделали соучастником перспективного посягательства на супружескую постель. И объявил об увиденном, игнорируя вопросы Уолпола:
— Вижу, вижу. Мне поистине очень жаль. Я ничего об этом не знал. Даже меньше, чем Арри. Просто никогда даже в голову не приходило, — Арри тоже, как я понимаю, — будто Тельма замужняя женщина.
— Миссис Уолпол, — тавтологично объявил Уолпол, — моя жена. Может, ее зовут Тельма, а может, и нет, в зависимости от пребыванья на службе. В связи же с вопросом о Харри, — педантично подчеркнул он согласную, — в связи с этим самым вопросом вы выходите лжецом, лицемером, если не возражаете против таких выражений. — Уолпол поднял руку, будто приносил присягу. — Я прибегаю к таким выражениям, — пояснил он, — руководствуясь общепринятыми условностями, которых вы сами, возможно, придерживаетесь, будучи бурджуем. На мой взгляд, так сказать, они не совсем соответствуют, как пережитки бурджуйской морали.
— Я, — горячо сказал Эндерби, — в высшей степени возражаю против наименования лицемером и лжецом, особенно в моем собственном доме.
— Оставьте ханжество, — предложил Уолпол, явно имевший широкий круг чтения, удобно стоя, расставив ноги, растопырив дождевик перед камином. — Вы как раз покидаете эту квартиру, которая не является домом, равно как, полагаю, вашей собственностью, и, больше того, какая разница в смысле воздействия определенных слов на сознание индивидуума, от места произнесения этих слов, будь то в церкви, в уборной, простите за выражение, или, раз уж так вышло, здесь. — И чуть присел, как бы поправляя между ягодицами режущую складку брюк.
Упоминание о церкви и об уборной проникло прямо в сердце Эндерби, воззвав к разуму.
— Тогда ладно, — сказал он. — Почему я лжец и лицемер?
— Справедливый вопрос, — признал Уолпол. — Вы лицемер и лжец, — с прокурорской внезапностью ткнул он пальцем, — потому, что скрываете свои потребности под личиной другого мужчины. О да. Я беседовал с тем самым Харри. Который признал, что отправлял наверх миссис Уолпол тарелки с тушеным рубцом, а однажды угрей, — она неравнодушна к тому и к другому, — однако понятно, что это жест дружелюбия между коллегами, когда оба работают в одном и том заведении. Они оба трудящиеся, хоть место их работы бурджуазное. Можете вы про себя сказать то же самое?
— Да, — сказал Эндерби, — нет.
— Ну, тогда, — продолжал Уолпол, — я верю на слово Харри, который трудящийся, что у него в мыслях не было адюльтерных намерений. Его просто потрясло, я там был, видел, что потрясло, когда другой мужчина замужней женщине посылает стихи и подписывает их именем другого мужчины, именем мужчины, который, до сих пор живя в капиталистическом обществе, находится не в таком положении для ответа на удар ударом, в каком вы находитесь. — Снова мелькнул обвиняющий палец, точно хамелеонов язык.
— А почему, — спросил ошеломленный Эндерби, ужасаясь предательству Арри, — не он лжец и лицемер? Почему вы мне не верите? Черт побери. Я видел ту женщину всего раз, и то только одинарную порцию виски заказывал.
— Одинарную или двойную, значения не имеет, — логично заметил Уолпол. — Бывали случаи, когда мужчины, особенно поэты, всего раз видели женщину (я был бы благодарен вам за неупотребление этого выражения относительно миссис Уолпол), или вообще никогда, и все же писали ей кипы и кипы стихов. Один итальянский поэт, вы, может быть, слышали, который про Ад писал, и тоже замужней женщине. Он про Ад писал, мистер Эндерби, не про то, про что вы написали в постыдных стихах, которые я вас прошу потрудиться обратно забрать. Вы тут пишете про ягодицы, про груди, это неприлично. Я потратил какое-то время на чтение ваших стихов, отложив ради этого другую работу по чтению. — Теперь Эндерби уловил скрытый под слабым заморенным восточно-центральным акцентом более сильные англо-валлийские оттенки. — Непристойностей, — изрек Уолпол, — высказанных любым мужчиной замужней женщине, следует всем сердцем стыдиться, страшась осуждения.
— Абсурд, — сказал Эндерби. — Чертов бред. Я написал стихи по просьбе Арри. Я писал их в обмен на заимствованный костюм, несколько бесплатных цыплят и тушку индейки. Разве не логично?
— Нет, — логично заметил Уолпол. — Нет. Вы эти стихи написали. Это вы написали про груди и про ягодицы и даже про пупки, в связи с миссис Уолпол, а никто другой. Это грех.
— Но, проклятье, — рассердился Эндерби, — ведь они у нее есть, правда? В этом отношении она точно такая же, как все прочие женщины, разве нет?
— Не знаю, — сказал Уолпол, унимая гнев Эндерби жестом хормейстера. — Я не женолюбец. Мне работать надо. У меня времени нет на женское легкомыслие и обман. Я должен работать после трудового дня, ночь за ночью, читая и изучая Маркса, Ленина и других авторов, которые приведут меня к такому положению, откуда я смогу помочь своим товарищам-рабочим. Можете вы про себя такое сказать? Куда вас поэзия привела? Вот куда. — И широким жестом охватил пыльную гостиную Эндерби. — А меня учение куда привело? — Но на свой вопрос не ответил; Эндерби ждал, однако вопрос определенно был риторическим.
— Слушайте, — сказал он, — я должен на поезд успеть. Простите, что так вышло, но ведь вы понимаете, это полное недоразумение. И поверьте моим заверениям, я с миссис Уолпол совсем не общался в светском отношении и совсем мало в профессиональном. Под профессиональным общением, — добавил из осторожности Эндерби, предусматривая возможные недоразумения, — я, конечно, имею в виду ее профессию барменши.
— За это, — заметил, покачав головой Уолпол, — заработной платы не платят, это не профессия. Ну, — продолжал он, — встает вопрос о наказании. Полагаю, в определенной мере этот вопрос решается между индивидуумом и его Создателем.
— Да-да, — слишком поспешно, со слишком большим облегчением согласился Эндерби. — Согласен.
— Вот как, согласны? — переспросил Уолпол. — Более интеллигентный и более начитанный человек, следующий политическим теориям, почувствовал бы искушение задать определенные простые вопросы. Что это были бы за вопросы, товарищ Эндерби?
Кишечник Эндерби сильно отреагировал на почтительный холодок с намеком на промыванье мозгов и на соляные копи: он как бы перешел в жидкое состояние, но одновременно готовился грянуть мощный взрыв. Тем не менее Эндерби храбро сказал:
— Люди, верящие в диалектический материализм, как правило, не верят предположению о божественной первопричине.
— Очень хорошо изложено, — похвалил Уолпол, — хоть и немножечко старомодно уклончиво. Бог то, что под ним понимается, товарищ Эндерби, Бог, Бог, Бог. — Он воздел глаза к потолку, открывая и закрывая рот при произношении божественного имени, словно поедая его. — Бог, Бог, Бог. — Как бы в ответ на призыв раздался стук в дверь. — Проигнорируем, — резко приказал Уолпол. — У нас тут решаются важные вещи, ни к чему нам безделица с визитерами. Я это сделал, — объявил он с неожиданной хитрецой. — Добился, — добавил помягче, с ярко сиявшим слабоумием взглядом. — Открыл синус-тезис. — Снова раздался стук. — Проигнорируем, — повторил Уолпол. — Ну, теперь, товарищ Эндерби, вы в полном праве задать вопрос: «Какой синус-тезис?» Давайте, — потребовал он со сдержанной силой, — спросите.
— Почему вы не на работе? — спросил Эндерби. Снова стук.
— Потому что, — объяснил Уолпол, — сегодня суббота. Пять дней можно делать дела, говорит Библия. Седьмой день Господа Бога вашего. Шестой день для футбола, распространенья речей, наказания и так далее. Давайте, спросите.
— Какой синтезис? — спросил Эндерби.
— Синус-тезис всего, — изрек Уолпол. — Другие Бога выбрасывают, а я Его включаю. Я нашел Ему в мироздании место.
— Какое? — полюбопытствовал Эндерби в восхищении, несмотря на кишечник, страх и стук в дверь.
— Какое может быть место, — ответил Уолпол, — кроме Его собственного? Место Бога — это место Бога, вернее не скажешь. А теперь, — велел он, — на колени, товарищ Эндерби. Вместе помолимся тому самому Богу, и просите прощения за все грехи блуда. — Опять постучали, громче. — ТИШЕ, — рявкнул Уолпол.
— Не буду я молиться, — отказался Эндерби. — Я никакого блуда не совершал.
— Кто не совершал, — молвил Уолпол, — в сердце своем? — И указал на собственное сердце, как на детской картинке Эндерби с изображеньем Спасителя. — На колени, — сказал он, — и я помолюсь вместе с вами.
— Нет, — твердил Эндерби. — Я вашего Бога не признаю. Я католик.
— Тем более, — сказал Уолпол. — БОГ ОДИН, ТОВАРИЩ! — неожиданно крикнул он. — На колени, молись, получишь отпущение от меня, если не от Товарища Всевышнего. А не будешь молиться, я Цербером стану, кликну ребят с работы, и чертовски быстро, даже если ты думаешь, будто нынче утром уедешь. НА КОЛЕНИ! — приказал он.
Эндерби со вздохом повиновался. Колени у него не гнулись: Уолпол же пал на колени со сценической легкостью, благодаря большой практике. Глаза не закрыл, не сводя их с Эндерби, обратившегося лицом к золотой скинии электрокамина. Уолпол произнес молитву:
— Товарищ Бог, прости бурджуазные прегрешения присутствующего здесь товарища Эндерби, которого сбили с пути праведного телесные похоти, толкнув на писание порнографической поэзии для миссис Уолпол, Тебе известной, хоть она выю не преклоняет и не входит в число Тобой избранных. Да осияет его свет Твой, сделав достойным трудящимся, примерным членом профсоюза, когда соответствующий сформируется. Ибо он поэт. А еще лучше пусть он вообще перестанет грязные стихи писать, выучится какой-нибудь приличной профессии с правильными профсоюзными взносами и живет в Божеской праведности, если будет на то Твоя святая воля, с какой-нибудь достойной женщиной по Твоему выбору, в состоянии освященного брака, до той поры, пока это бурджуазное состояние не заменится чем-нибудь лучшим, более отвечающим требованиям пролетариата. — Тут Эндерби увидел, как Уолпол победно улыбается какому-то явлению слева от него, позади Эндерби, примерно на уровне багета для развески картин. Предполагая, что это Бог, он не испугался. — Еще моментик, — предупредил Уолпол. — Потрясающе, что молитва делает, правда? Чудо, черт побери, вот что это такое. Ну, чтоб покончить, — продолжал он молитву, снова глядя на Эндерби, — пускай этот товарищ раб Твой прекратит бегать за женщинами и вносить смуту, а вернется на святые пути Твои, на службу бесклассовому обществу, которое Ты обещал целиком построить для трудящихся. Благодарю тебя, товарищ Бог, — сказал он, наконец. — Аминь.
Эндерби со стопами, с парочкой сопутствующих взрывов, со скрипом поднялся на ноги. В тот же миг электрокамин, подобно какому-нибудь зороастрийскому божеству, отключился, выслушав молитву. Эндерби встал, повернулся, разрядился и увидал миссис Бейнбридж. Она поболтала ключом Эндерби в качестве объяснения, как вошла без его более непосредственного содействия, и заявила:
— Ну, никогда в жизни не встречала мужчины, способного на такие сюрпризы. — Олицетворенье мечты буржуазной зимней элегантности: черный городской костюмчик с крошечным белым жабо из пенных кружев, с прямой узкой юбкой-карандашом; шубка длиной три четверти с воротником из рыси; длинные зеленые замшевые перчатки; тускло-зеленые замшевые ботинки; бархатная шляпка в виде листа двух оттенков зеленого: стройная, чистая, гибкая, деликатно накрашенная. Божий марксист Уолпол был в явном восторге. Протянул ей желтенькую листовочку, потом, как бы вспомнив, дал одну Эндерби. «БОГ ИЛИ КАПИТАЛИЗМ? — было там написано. — Не бывает того и другого. Г. Уолпол произнесет речь на эту ЖИЗНЕННО ВАЖНУЮ тему в Мемориальном зале лорда Гелдона в четверг 11 февраля. Вход свободный».
— Приходите, леди, — пригласил Уолпол, — и его приводите. Есть в нем что-то хорошее, если только докопаться, как вам самим отлично известно. Я бы сказал, ваше дело — хорошенько над ним поработать, сделать из него достойного человека, чтоб перестал стихи писать женщинам, а вы мне кажетесь вполне способной справиться с такой задачей.
— Стихи женщинам? — повторила Веста Бейнбридж. — Для него это дело обычное, правда? — И одарила Эндерби женственным жестко-мягким зеленым взглядом, держа перед собой большой ридикюль лопатой, чуть раздвинув носки, как позирующая натурщица.
Г. Уолпол при всем своем теофаническом социализме был мужчиной порядочным, с буржуазными добродетелями, и поэтому теперь, старательно помолившись, не желал ставить Эндерби в неловкое положение перед невестой.
— Можно сказать, только так говорится, — пояснил он. — Мистер Эндерби, можно сказать, мужчина очень сексуальный, с сильными страстями, которые надо сдерживать, а вы, — сказал он, — кажетесь мне способной на это.
— Большое вам спасибо, — поблагодарила Веста Бейнбридж.
— Слушайте, — сказал Эндерби. Двое других прислушались в ожидании. На самом деле ему нечего было сказать.
Уолпол подтвердил:
— Точно. В поэзии, если не в личной жизни, если вы понимаете, что я имею в виду. Вот тут вы и вмешайтесь, товарищ мадам, внушите ему более сильное чувство реальности. Да благословит Бог всех трудящихся ваш союз до тех пор, пока общество не придумает чего-нибудь лучшего.
— Большое вам спасибо, — поблагодарила Веста Бейнбридж.
— А теперь, — весело сказал Уолпол, — я пойду. С большим удовольствием провел с вами небольшую совместную диалектическую беседу, надеюсь на дальнейшее. Не провожайте, я знаю дорогу. Да хранит вас Бог, — пожелал он Эндерби. — Терять вам нечего, кроме своих цепей. — Благословил Эндерби и его мнимую нареченную стиснутым кулаком, еще раз улыбнулся и вышел. Эндерби и его мнимая нареченная остались наедине, слушая, как стихают шаги и радостный свист маршировавшего по ступенькам Уолпола.
— Так, — сказала Веста Бейнбридж.
— Вот, — сказал Эндерби, — тут я живу.
— Вижу. Но если вы тут живете, зачем переезжаете?
— Я не совсем понимаю, — сказал Эндерби. — Повторите, пожалуйста.
— Это я вас не совсем понимаю, — сказала Веста Бейнбридж. — Кажется, вы мне отправили так называемое письмо в стихах с разнузданным и вполне недвусмысленным предложением, а потом испугались, решили бежать. Неужели все так просто? Видно, думали, будто я не получу его до утра понедельника; видно, надеялись одновременно атаковать и бежать. На самом деле я всегда захожу на почту субботним утром, посмотреть, не пришло ли чего, и вот обнаруживаю письмо, практически испепеляющее почти без ваших усилий. И сразу сажусь в поезд. Я была озадачена, заинтригована. И обеспокоена.
— Обеспокоены?
— Да. За вас. — Она принюхалась к гостиной, с отвращением морща нос. — И вижу причину для беспокойства. Здесь полнейшая грязь. Кто-нибудь убирать приходит?
— Я сам убираю, — признался Эндерби, внезапно со стыдом ясней видя убожество своей жизни на фоне ее устрашающей благополучности. — Более или менее. — И повесил голову, как школьник.
— Вот именно. И, Харри, если можно вас так называть, — собственно, я теперь просто обязана вас так называть, правда? — что вы намерены делать? Куда намерены отправиться?
— Меня зовут не Харри, — поправил Нехарри Эндерби. — Просто стих так подписан.
— Знаю, конечно, вас так звать не могут, в инициалах у вас «X» отсутствует. Все-таки вы подписались Харри, и вам Харри идет. — Она оглядела его, склонив головку на манер попугая, словно Харри был шляпой. — Повторю, Харри, что вы собираетесь делать?
— Не знаю, — сказал сокрушенный псевдохарри Эндерби. — Понимаете, надо подумать. Куда ехать, и прочее. Что делать, и так далее, и тому подобное.
— Ну, — сказала Веста Бейнбридж, — несколько дней назад я чаем вас угощала, а вы мне обед предлагали, когда я не могла согласиться. По-моему, хорошо б вам сейчас повести меня куда-нибудь на ленч. А потом…
— В одно место я вас не могу повести, — предупредил Эндерби, преданный и разозленный. — Вполне определенно. Я там отравлюсь. Я там задохнусь. От любого глотка.
— Очень хорошо, — проворковала Веста Бейнбридж. — Ведите, куда хотите. А потом я приведу вас домой.
— Домой? — с внезапным испугом переспросил Эндерби.
— Да, домой. Домой, домой, домой. Знаете, к очагу. В то место, с которым ничто не сравнится. За вами надо присматривать. Я отведу вас домой, Харри.
Эрррррррррррп.
Эндерби тошнило в очень маленькой уборной. А еще он только что женился. Эндерби, женатый мужчина. Блюющий новобрачный.
Когда лоб охладился, он сел, вздыхая, на маленькое седалище. Кругом внизу под ним июньская погода; июнь — месяц свадеб. В одиночестве, в жужжавшем и гудевшем крошечном туалетике, ему впервые удалось почувствовать радость и одновременно испуг. Невеста, пусть даже лишь в строгом костюме, уместном для регистрационной конторы, выглядела очаровательно. Как сказал сэр Джордж. Сэр Джордж снова стал дружелюбным. Все было прощено.
Она почти первым делом потребовала извиниться перед сэром Джорджем. Эндерби написал: «Страшно жаль, что я, кажется, уподобил ваше лордство глупому болвану, но думал, вы оцените этот слабый бунтарский жест. Вы ведь сами, бог знает зачем, со смертельными муками пробовали свои силы в искусстве и, хотя ради вашей поэзии ее распоследний ценитель даже не пукнет, вполне способны понять, какой часовой механизм заставляет поэта тикать и как он ненавидит тяжелую руку под пустой риторикой…» Это, сказала она, фактически не годится. Тогда Эндерби попробовал покороче, чистой прозой, и сэр Джордж с большой радостью принял скрипучее официальное извинение.
О, она принялась перестраивать его жизнь. С самого начала, за совместными завтраками в большой гостиной ее большой квартиры, за окнами которой маячила февральская Глостер-роуд, стало ясно, что дело может идти только одним путем. Ибо какие еще отношения считаются жизнеспособными в глазах света, как не те, что у них только что начались? Эндерби вынужден был отказаться от взаимоотношений домохозяйки с жильцом, поскольку не платил за жилье. Практически единственный другой известный ему тип отношений с женщинами: мачеха — пасынок. Он знал и ценил Весту за то, что она, чистая и красивая, — антипод мачехи. Второй брак отца повлек за собой кратких пасквильных теток со стороны мачехи и сказочно образцовую сводную сестру, слишком хорошую для сего мира и поэтому вскоре умершую от ботулизма, которую Эндерби визуально всегда представлял в виде болтавшейся на ниточке целлулоидной куклы, пародии на свою мачеху. Он не чувствовал Весту сводной сестрой. Подруга? Несколько раз прокатил это слово по нёбу, сплошь прописными буквами, и все такое прочее, испробовал на вкус меланхолическую сумрачную акварель с изображением Шелли и Годвин[46] с ляжками хористов, как на иллюстрации Блейка, созывавших на чтенья в причаленной лодке гостей, высокогрудых и довольно глупых леди, любительниц готических романов, под скрипичную игру мошек в скорбном воздухе. Эпипсихидион[47]. Эпиталамион[48]. О боже, с этого слова действительно все началось, ибо оно дало начало стиху.
Крик в облаках и стая перелетных птиц,
Чужой планеты небо семилунное
Из аметиста, оникса, карбункула,
кровавика, рубина, яшмы и агата.
Или двойные солнца,
Что борются, как львы, и источают
Огонь, который можем мы стерпеть,
Сплетаются и вьются, сочетаются
В любви беспозвоночной, которая сплавляет наши «я»
В первичном соке радости творца
Пред сотворением материи,
Две сферы на одной орбите…
За завтраком они должны были пить черный чай высшего сорта; ей, в костюме цвета ржавчины с тяжелой брошью из кованого олова на левом лацкане, сразу предстояло идти на работу. Эндерби на кухоньке, в пастельной прелести которой чувствовал себя особенно громоздким и грязным, ставил чайник, чтоб мачехин чай заварить, и слово «эпиталама», подобно объявлению о прибытии поезда, заставило дощатый пол содрогнуться с громовым раскатом. За обеденным столом он с пыхтением расставлял слова, видя в возникавшем стихе песнь торжества зрелой страсти, — Гертруда и Клавдий в «Гамлете», рыжебородые губы на белой шее вдовы. Рядом с ним стыл листовой чай. Явилась поденщица, миссис Описсо, смуглая, задастая, грудастая, чесночная, усатая, с бриллиантовой ухмылкой, эвакуированная с Гибралтара во время войны, в крови которой переплавились шарики генуэзцев, португальских евреев, сарацин, ирландцев, андалузцев, и, прерывая уборку, расспрашивала:
— Ты что делаешь в этом доме, а? Не выходишь, не работаешь, а? И кто ты ей такой, а? Скажи. — Трудно было сказать; недостаточно объявить, что не ее это дело.
…Поздоровевший вечер
Сочится млеком, медом, запустив ракеты,
Что высоко парят над праздниками богачей,
В десятках сотен парков королевства,
Лучами той постели осиянных…
Веста не обязательно посчитала бы эпиталаму предназначенной ей и ее Гостю-Другу-Протеже, так как уже заметила сардонически:
— Если вы собрались нынче утром любовные стихи писать, позаботьтесь не отослать их нечаянно сэру Джорджу. Однажды беспечность доставит вам крупные неприятности, попомните мои слова.
Эндерби повесил голову. Она была в то утро усталой и раздражительной, утомленно терла лоб, словно в телерекламе какого-нибудь шарлатанского анальгетика, с нежно-голубой дугой усталости под зелеными глазами. Стояла у дверей в чистой ржавчине, в шифоновом шарфе двух оттенков зеленого, в коричневом крошке-беретике наискосок, в коричневых замшевых перчатках в тон туфлям, стройная, элегантная, тихо менструируя (что вызывало у Эндерби благоговение). Он сказал:
— Знаете, на одних женщин менструация сильней действует, чем на других. Попробуйте джин с горячей водой. Говорят, чудеса делает.
Она чуть покраснела и спрашивает:
— Откуда вам это известно?
— Из «Фема».
— Все это весьма странно, — вздохнула она. — Я должна, когда выдастся время, точно определить характер наших отношений.
Омой корабль вином! В пространных водах,
Что вечно носят то кольцо, с каким земля смиряется
Лишь вдалеке от городов, пускай он пляшет, скачет…
И опять, в другой раз, точный характер не получил еще определения.
— Вопрос в том, что с вами делать.
— Со мной?
— Да, вот вопрос.
— Ничего со мной делать не надо. — Он в страхе на нее косился над раздробленными фрагментами тоста, которым его кормили, как ручную птичку. — Я, в конце концов, поэт. — Внешний мир ответил выхлопом грузовика.
— Я хочу точно знать, — сказала Веста, обхватив за завтраком чашку замерзшими утренними руками, — сколько у вас денег.
— Зачем вам это знать? — спросил хитрый Эндерби.
— О, оставьте, пожалуйста. У меня рабочий день впереди. Не надо никакой чепухи. Прошу вас. — Эндерби принялся предъявлять содержимое левого брючного кармана. — Я не про те деньги, — резко одернула его она.
Эндерби осторожно сказал:
— Десять тысяч фунтов в местных государственных облигациях из пяти с половиной процентов. Дивиденды. Две тысячи фунтов в Ай-си-ай, Би-эм-си, «Батлинс». Основной капитал.
— А. Доход какой?
— Около шестисот. На самом деле немного, да?
— Ничто. И я думаю, ваша поэзия дает меньше, чем ничего.
— Две гинеи в неделю. От «Фема», благослови его бог. — Ибо в конце концов Эндерби подписал контракт и уже видел напечатанную за подписью Крепость Веры белиберду: «Крошки щечки, крошки ручки гимном славят Бога, а беззубая улыбка радует святых…»
— Правда, такого дохода и иметь-то не стоит. Поэтому надо придумать, что с вами делать.
— Со мной? — мгновенно вспыхнул Эндерби.
— Слушайте, — сказала она, — я знаю, вы поэт. Только не надо нас потчевать поэтической драмой в духе раннего мистера Элиота, правда? Тем более за завтраком.
— Стихомифия, — прокомментировал ученый Эндерби. — Только именно вы все это затеваете.
Ну, еще кое-что не затеялось: полезная служба, deuxième métier[49] поэта. С Валентинок до Троицы ему было позволено, пусть не в уборной, мирно трудиться над «Ручным Зверем». Но после медового месяца все должно было пойти по-другому.
И ты, чей страх пред картой мира
Откроет долгий шумный войсковой парад
Приятных, или, в крайнем случае, нейтральных
Отображений недруга…
Его собственных небольших денег не надолго хватило б, еще до того, как настала пора капитальных покупок. («Позвоните в „Лев“ и закажите пару бутылок джина. Заплатите миссис Описсо. У меня нет наличных».) И жадные лапы Фортнума с Мейсоном и Военторга[50]. И новый гардероб для себя: Лондон не особенно жалует болезненный случайный прикид побережья. Капитал Эндерби таял. Она, расточительная шотландка, в деньги не верила, только в вещи. Отсюда дом в Суссексе на ее имя за семь тысяч фунтов, его брачный взнос; а еще мебель, а еще новый «велокс», который водила Веста, Эндерби в самом трезвом состоянии управлял машиной, как распьянейший пьяница. И норковая шуба, свадебный подарок.
Кто предложил брак и когда? Кто кого любил, если вообще; и за что? Эндерби в позе мыслителя на седалище унитаза хмурился на вернувшийся вечер, когда он сидел, заканчивая эпиталаму, в ее двойной гостиной перед внушавшим ему восхищение предметом мебели — перед буфетом, массивным, навощенным, объявлявшим дату (1685) среди резных ромбов и прочих фигур, выдуманных столяром, запечатлевшим свою любовь к гигантскому негроидному корабельному дубу, который формовал и выглаживал. Над буфетом висел портрет Весты работы Гидеона Далглиша; с перламутровыми плечами, высокомерная в бальном платье, она, казалось, вот-вот втянется центрифугой обратно в поджидавшие, но невидимые тюбики с красками. Над открытыми книжными полками фотоснимок покойного Пита Бейнбриджа. Он красиво усмехался в шлеме, сидя за рулем «ансельма» (2493 литра, шестицилиндровый, 250 л. с., дисковые тормоза Джирлинга, карбюраторы Вебер 58 ДКО и т. д.), в котором встретил смерть всмятку. Эндерби начал последний станс:
И даже смерть способна синими губами мелькнуть на том пиру,
Шмыгнуть, как мышь, иль птица, в коридорах,
Увешанных гербами без разгадки…
И почувствовал неожиданный, нежеланный позыв личной, в противоположность поэтической, силы: он, недостойный и некрасивый, наконец, ожил, тогда как талантливый и блестящий красавец вдребезги разбился. Эндерби усмехнулся, позаимствовав у покойника форму усмешки, как бы триумфальной. Веста, читая новый блистательный роман недоучки, оторвала взгляд от своего Паркер-Нолла[51] застала усмешку, и спрашивает:
— Чему усмехаетесь? Что-то забавное написали?
— Я? Забавное? О нет. — Эндерби прикрыл рукопись неловкими лапами, как прикрывают обеденную тарелку от навязываемой второй ложки картофельного пюре. — Вовсе ничего забавного.
Она встала, очень элегантно, посмотреть, что он пишет, и спрашивает:
— Что вы пишете?
— Это? О, по-моему, вам не понравится. Это… Ну, нечто вроде…
Она схватила листок с нацарапанными строчками и вслух прочла:
…По крайней мере, двое могут отрицать,
Что прошлое имеет хоть какой-то запах. Могут присягнуть,
Что корни терпеливости и страсти в одной и той же парадигме,
Признать в той музыке,
Что вся вина на свете, словно воздух,
Окутала тела живущих.
— Понимаете, — с излишней поспешностью объяснил Эндерби, — это эпиталама. К женитьбе двух взрослых людей.
Она необъяснимо склонила голову со сладко пахнущими волосами цвета пенни и поцеловала его. Поцеловала его. Его, Эндерби.
— Теперь у вас здоровое дыхание, — заметила она. — Телу и душе порой трудно прийти к согласию. Выглядите лучше, гораздо лучше.
Что он мог на это ответить, кроме: «Благодаря вам»?
И сейчас, страдая воздушной болезнью, сидел в этой воздушной уборной, вынужденный признать, что нынешней весной и в начале лета возник новый Эндерби, — более молодой Эндерби, у которого меньше жира и ветров; новые зубы, достаточно несовершенные, чтобы выглядеть настоящими; несколько красивых костюмов; искусно отделанные у «Трамперса» в Мейфэре волосы, деликатно дышавшие «Эврикой»; Эндерби, не столь неловкий в обществе, с поздоровевшим аппетитом без диспепсической страсти к специям и к хлебу с джемом, тщательней выбритый, с более чистой кожей, с остекленевшими от контактных линз глазами. Видела бы его теперь миссис Мелдрам!
Кто упомянул про любовь? Упоминал ли кто-нибудь про любовь? Жили они в целомудрии под одной крышей, как весталки, как феникс и черепаха, и Пит Бейнбридж из некоего Элизиума автогонщиков усмехался над странным дружеским сожительством. Но приходится только подбрасывать да глядеть, как крутится на натертом полу потертая монета, все громче и громче звякает музыкой, вертится, точно мир. Из кармана или из сумочки? Эндерби не помнил, но точно знал, что как-то вечером кто-то из них произнес это слово в той или иной связи, может быть, рассуждая о его инфляции в популярных песнях и в хриплых речах неотложной потребности, может быть, обсуждая его персонифицированную идентификацию с Богом в религиозной поэзии XVII века. Потом начался быстрый процесс, для анализа слишком тонкий и иррациональный, когда кто-то высвистел голубя-ястреба с безопасных высот спекуляций на першу, и в мгновение ока — на пару сомкнутых рук.
— Мне было так одиноко, — сказала она. — Так холодно по ночам.
Эндерби, потенциальный обогреватель постели, оставался по-прежнему потенциальным во время краткого полета к медовому месяцу, ибо жили они до сих пор в целомудрии. До сегодняшней ночи. Сегодня ночью в «Альберто Тритоне» на виа Национале. Чего-то, задыхался Эндерби, следует ждать.
— Эй, вы там, — сказал голос, имея в виду «послушайте». Эндерби приподнялся с крошечного седалища и послушал. — Билет не наделяет вас правом на безоговорочную монополизацию сортира. — Хорошо сказано, признал Эндерби. Голос американский и авторитарный, поэтому он поспешил уступить место, теперь вполне уверенный, что лучше себя чувствует. За складной дверью глубоко задышал, видя крупного мужчину типа туриста, с кивком мимо него протиснувшегося. Бифштексная физиономия и две камеры — соответственно фото и кино — на животе наготове. Интересно, задумался Эндерби, сфотографирует ли он сортир. В иллюминаторе засияла летняя тучка. Он шел по проходу к своей нареченной, холодной, прелестной, сидевшей, глядевшей на летнюю тучку. Она взглянула на него снизу вверх, улыбнулась, спросила, лучше ли ему. А когда он сел, протянула руку. Кажется, начинается новая жизнь.
Словно попав в хорошо оснащенную баню, Эндерби был потрясен разнообразными жидкостными ощущениями после посадки в Риме (снижения. Вечный Город: паста, старый хлам, монументальные развалины, каменные крепыши с фиговыми листочками, телятина, Ватикан, лестницы в подвалы, кости мучеников. Все крыто звонким серебром, освежается фонтанами. И желаем всего наилучшего). Он облился холодным потом, когда запоздавший со спуском желудок заставил хозяина увидеть Рим в неком мачехином контексте (папа на картинке на стенке спальни благословляет семь холмов; полупрозрачный образ святого Петра, вставленный в крест с четками цвета бланманже, закладка изданного в Риме служебника с изображением Святого Семейства в виде любителей спагетти среднего класса). Потом трепещущие струи согрели его, покрытая гусиной кожей рука, державшая новобрачную за руку, вновь разгладилась, когда в «Мировых новостях» вынырнуло изображение полногрудой старлетки, плещущейся шутки ради в фонтане Треви. Были там также потасканные красавцы князья, вовлеченные в пакостные бракоразводные дела; Чинечита крупней Ватикана. Собственно, все хорошо, все должно быть хорошо, волнующе, чувственно. Эндерби с гордостью глянул на новобрачную и почуял укол желания, подобный отдаленным слухам о войне, законного желания; на миг она идентифицировалась с этим новым городом, который предстояло, абсолютно законно, пустить на поток и разграбление. Он сказал ей несколько слов, вернувшихся из времен его службы в ВС[52]:
— Io ti amo[53].
Она улыбнулась и стиснула его руку. Эндерби, латинский любовник.
Тепло, волнение, чувство омоложения, благополучно пережитая посадка (стюардесса самодовольно ухмылялась на выходе, как будто сама после полетной беременности произвела аэропорт на свет; американец, который выставил Эндерби из сортира, начал отчаянно щелкать). В клочковатой процессии к зданиям Кьямпино[54], раскинувшимся в жаркой погоде медового месяца, Эндерби, как на чистой странице, видел на плоском голом летном поле формулу своей новой свободы, то есть освобождения от своей старой свободы. Тощий, как Кассий, и мрачный, как Каска[55], таможенник-римлянин грубо дернул «молнию» саквояжа Весты и продемонстрировал всему залу новую ночную рубашку. Мрачно подмигнул Эндерби, что тот принял за доброе предзнаменование, хотя лицо у мужчины было изголодавшееся, и поэтому он доверия не заслуживал. Жирный водитель автобуса, трясясь по Аппиевой дороге, пел какую-то масленую заунывную арию с amore[56], вызывая тем самым доверие. А потом — у-ух! — опять холодная вода, когда солнце заволоклось тучами над мшистым акведуком, развалиной выросшим из сухой травы над старыми плитами, лежавшими, как крупные лепешки дерьма, под рекламой бензина в полосатых комических красках. Американец из сортира кормил свои камеры, словно усевшихся на коленях ручных собачек. Тем временем Эндерби все больше угнетало ощущение путешествия по мясницкой лавке дурной истории средь ребристых скелетов, уже насильно напичканных кусками гнилой империи. Сразу за пределами поля его зрения спокойно стояли ростры, на которых покоились в виде какого-то хора Сенеки усмехавшиеся безносые древние римляне, разжиревшие на сицилийской кукурузе и на крови гладиаторов. Они будут присутствовать в медовом месяце; это их город.
По прибытии к аэровокзалу на виа Национале солнце вдруг полыхнуло пожаром на сиропном заводе. Неимоверно сильный карлик-носильщик донес их вещи до отеля всего за несколько домов, и Эндерби дал ему на чай слишком легкие подозрительные монеты. В вестибюле отеля их с поклонами встретили и приветствовали неискренними золотыми улыбками.
— Синьор Эндерби, — сказал синьор Эндерби, — и синьора Бейнбридж.
— Нет-нет-нет, — сказала синьора Эндерби.
— Еще не привык, понимаете, — улыбнулся Эндерби. — У нас медовый месяц, — объяснил он администратору, суетливому римскому карлику, который подхватил:
— Медовый месяц, а? Я шчитал, все вовсем раззабыли про медовый месяц. Давно у меня не бывало медового месяца, — с сожалением признал он.
— Слушайте, — сказала Веста, — я не совсем хорошо себя чувствую. Нельзя ли проводить нас… — Мгновенно раздались крики, началась беготня, перетаскиванье чемоданов.
— Дорогая, — сказал озабоченный Эндерби. — Дорогая, в чем дело?
— Устала, и все. Лечь хочу.
— Дорогая, — сказал Эндерби.
Вошли в лифт, сплошное рококо филигранной работы, в хрупкую воздушную клетку, поднявшую их на этаж, вымощенный венозным мрамором. Эндерби с интересом увидел открытый римский туалет, но отмахнулся от интереса. С теми временами покончено. Номер им показал молодой человек в пиджаке винного цвета с плоско расплющенным носом, вопиющим противоречием мифу о римском профиле. Эндерби дал ему несколько ничего не стоящих кусочков металла и спросил vino. (Эндерби заказывает vino в Риме.) Молодой человек яростно замахал руками сам себе, потом с напряжением поднял одну, стиснув зубы, словно тягал смертельную тяжесть, демонстрируя Эндерби пространство между ними, — бутылку воздуха с рукой-донышком и рукой-горлышком.
— Фраскати, — зловеще кивнул он и вышел, кивая.
Эндерби повернулся к жене. Та сидела на обращенном к окну краю двуспальной кровати, глядя на виа Национале. Комнатка была полна уличным шумом — лязг трамваев, конский топот, «фиаты», «ламбретты».
— Устала, устала, устала, — проговорила Веста, снова с синими дугами под глазами, с утомленным в резком римском свете лицом. — Совсем никакая.
— Это не?.. — осведомился Эндерби.
— Нет, конечно. Сегодня ведь наша свадьба, правда? Все будет в полном порядке, когда отдохну. — Она сбросила туфли, и — Эндерби сглотнул — быстро стянула чулки. Он отвернулся к скучному виду улицы: столичная строгость, никаких сверкающих южных зубов, никаких песен. В магазине через дорогу, будто нарочно для Эндерби, специально выставлены в витрине уцененные религиозные образы, дурно раскрашенные агиографии в фестонах из четок-бусинок. Когда он опять повернулся к постели, Веста уже лежала с непокрытыми тонкими руками и плечами. Не пышная женщина; тело соответствует допустимому женскому минимуму. Так и надо. Эндерби однажды застал мачеху пыхтевшей от напряжения, раздевавшейся в ванной в одном из редких случаев мытья целиком, с трясущейся плотью, с болтавшимися, словно колокола, грудями. Он содрогнулся при воспоминании, губы его, произнесшие «б-р-р-р», на миг стали мачехиными, трясшимися от холодной губки. Раздался стук. Эндерби читал Данте с английским подстрочником; и знал: там есть строчка со словом «войти». Принялся рыться в памяти и обнаружил его в тот момент, когда дверь отворилась.
— Оставь надежду, — провозгласил он на прекрасном тосканском, — всякий, кто сюда[57]… — Нерешительно заглянул длиннолицый официант. Потом вошел с подносом и вышел, не дожидаясь чаевых. Эндерби, свихнувшийся англичанин, вздохнул и налил вина. Дурное предзнаменование. Как у Байрона, который проснулся в брачную ночь и принял пламя в камине спальни за адское. Он сказал:
— Дорогая. Может быть, выпьете, дорогая? — И сам жадно глотнул. Очень милое винцо. — Поможет заснуть, если вы собираетесь спать. — Она утомленно кивнула. Эндерби налил другой стакан, золотая моча полилась в чистом свете, с икотой выходя из бутылки. Протянул ей, она приподнялась, чтобы выпить. Эндерби с любовью и жалостью увидел на ее плечах свою руку, помогавшую сесть. Она выпила полстакана и сразу, к ошеломлению и ужасу Эндерби, лихорадочно отреагировала. Оттолкнула его и стакан, соскочила с кровати, надув щеки, побежала босиком к умывальнику, схватилась за края, застонала, и ее стало рвать. Очень озабоченный Эндерби пошел следом и встал рядом с ней, стройной и беззащитной в минимальном несоблазнителном летнем белье.
— Это ваш ленч выходит, — пояснил он, наблюдая. — Жирноватый, правда? — Дальнейшие стонущие позывы. Он плеснул воды из бутылки.
— Ох, боже, — простонала она. — Ох, Иисусе. — Открутила оба крана, и ее вновь стошнило.
— Выпейте воды, — предложил Эндерби. Она хлебнула из протянутого стакана и снова срыгнула, но на этот раз больше водой, богохульно постанывая между спазмами. — Вот, — заключил Эндерби, — сейчас вам будет лучше. Поганый пудинг подавали. Сплошной джем.
— Ох, Иисусе Христе, — рыгнула Веста. (Сплошной джем.) Эндерби, бывший мастер желудочно-кишечных расстройств, с теплым чувством смотрел, как она все выплескивает. Потом, слабая, мокрая, вялая, обессилевшая, потащилась обратно в постель. — Хорошее начало, — выдохнула она. — Ох, Боже.
— Хуже нет самолетной еды, — заявил Эндерби, умудренный своим первым полетом. — Понимаете, все разогретое. Еще вина выпить стоит. Желудок успокоит. — Восхищенный почти рифмой, он тихонечко повторял: — Успокоит, успокоит, — мягко расхаживая по комнате, сунув одну руку в карман, в другой держа вино.
— Ох, заткнитесь, — простонала Веста. — Оставьте меня в покое.
— Да, дорогая, — примирительно сказал Эндерби. — Конечно, дорогая. Поспите чуточку, дорогая. — Услыхал в своем голосе льстивые нотки заграничной шлюхи, поэтому исправился и погрубей буркнул: — Пойду узнаю насчет аккредитивов. — При этом он стоял у дверей, словно бросал им вызов или к ним примерялся. Когда постучали, смог сразу открыть. Длиннолицый парень был ошеломлен. В руках полно роз, красных и белых.
— Fiori, — сказал он, — per la signora[58].
— От кого? — насупился Эндерби, ища сопроводительную карточку. — Боже милостивый, — сказал он, отыскав. — Роуклифф. Роуклифф сидит в баре. Дорогая, — сказал он, оглядываясь. Но она заснула.
— А, — сказал Роуклифф. — Получили известие, получили цветы? Хорошо. Где, — спросил он, — миссис Эндерби? — Выглядел он точно так, как тогда, когда Эндерби в последний раз его видел, в плотном старомодном костюме с золотой часовой цепочкой, усы Киплинга, пучеглазые очки, пьяный.
— Миссис Эндерби, — сказал Эндерби, — умерла.
— Я не ослышался? — уточнил Роуклифф. — Уже? От римской лихорадки? Прямо совсем как у Джеймса![59]
— А, понятно, о чем вы, — спохватился Эндерби. — Виноват. Знаете, она стала миссис Эндерби только сегодня. Надо привыкнуть. Я думал, вы мою мачеху в виду имеете.
— Ясно, ясно. А ваша мачеха умерла, да? Очень интересно! — Эндерби украдкой обследовал бар, полки, заставленные спиртным всех стран мира, серебряную чайную урну, аппарат «эспрессо». За стойкой без конца кланялся коротенький толстый мужчина. — Выпейте «Стреги»[60], — посоветовал Роуклифф. — Данте, — кликнул он, и не по-дантовски жирный мужчина преисполнился внимания. Тогда Роуклифф заговорил на весьма затейливом итальянском, полном, насколько мог судить Эндерби, сослагательного наклонения, однако с самым что ни на есть английским акцентом.
— «Стрега», — сказал Данте.
— А вы, — ядовито полюбопытствовал Эндерби, — и во всех итальянских антологиях тоже представлены? — Ему был размашисто подан стакан «Стреги».
— Ха-ха, — не особенно весело сказал Роуклифф. — Есть фактически весьма неплохой итальянский перевод того самого моего стишка, ну, вы знаете. Хорошо пошел по-итальянски. Ну, расскажите мне, расскажите мне, Эндерби, что пописываете в данный момент?
— Ничего, — сказал Эндерби. — Заканчиваю длинную поэму, «Ручной Зверь». Я вам о ней рассказывал.
— Безусловно, — кивнул Роуклифф. Данте тоже кивнул. — Очень хорошая мысль, безусловно. Надеюсь скоро прочесть.
— Мне хотелось бы знать, — сказал Эндерби, — что вы тут делаете. Не похоже, чтобы отдыхали, только не в таком костюме.
Роуклифф сделал то, о чем Эндерби читал, но никогда раньше не видел: приложил к носу палец.
— Правильно, — признал он. — Совершенно определенно не отдыхаю. Работаю. Всегда работаю. Еще «Стреги»?
— И вы со мной, — сказал Эндерби. Данте кивал и кивал, наполняя стаканы. — Себе тоже налейте, — велел Эндерби, расточительный в медовый месяц.
Данте поклонился и осведомился у Роуклиффа:
— Americano?
— Inglese, — поправил Роуклифф.
— Americani, — конфиденциально подавшись вперед, сказал Данте, — мать твою. Mezzo mezzo.
— Un poeta[61], — пояснил Роуклифф, — вот кто он такой. Poeta. Форма женская, род мужской.
— Прошу прощения, — извинился Эндерби. — Вы не хотите, случайно, на что-нибудь намекнуть?
— Фактически, — объявил Роуклифф, — я уверен, что все мы, поэты, в действительности представляем собой что-то вроде цветущего гермафродита. Знаете, как Тиресий[62]. У вас медовый месяц, да? Выпейте еще «Стреги».
— Вы в каком это смысле? — настороженно спросил Эндерби.
— В смысле? Смысл ваше дело, не так ли? Смысл смысла. А.А. Ричардс[63] и Кембриджская школа. Сплошная болтовня, если желаете знать мое мнение. Хорошо, не желаете больше пить со мной «Стрегу», тогда я с вами «Стрегу» выпью.
— «Стрега», — сказал Эндерби.
— Очень милый у вас итальянский, — заметил Роуклифф. — Парочка симпатичных гласных. Две симпатичных «Стреги», — сказал он, когда последние были поданы. — Благослови всех Бог. — Выпил и запел: — Кто последний придет, пускай сюда идет…
— Как вы узнали, что мы здесь? — полюбопытствовал Эндерби.
— На аэровокзале, — объяснил Роуклифф. — Прибывшие сегодня из Лондона. Всегда интересуюсь. Тут, говорят, медовый месяц. Замечательно, Эндерби, мужчина в вашем возрасте.
— Вы в каком это смысле? — спросил Эндерби.
— Для вам, джентльмены, «Стрега» насчет заведения, — сказал Данте и налил.
— Tante grazie[64], — сказал Роуклифф. — Вот куда, Эндерби, вас завело бесконечное беспокойство о смысле. — И запел, поднявшись, чтобы привлечь внимание: — Будь ты мотом, будь ты жмотом, Боже, храни королеву. Тут нет смысла, да? Будь ты обормотом. Еще лучше. В вашей поэзии слишком много смысла, Эндерби. И всегда было. — Эти слова породили несколько пьяных отрыжек. — Пардон, как говорится. — И выпил.
— «Стрега», — сказал Эндерби. — Е uno per lei, Dante[65].
— Нельзя так говорить, — заметил Роуклифф, икая. — Вы дьявольски жутко говорите по-итальянски, Эндерби! Дурно, как ваша поэзия. Пардон. Справедливая критика. Но повторяю, идея с чудовищем чертовски хорошая. Слишком хорошая, чтоб поэму из нее писать. Ах, Рим, — лирически произнес он, — дивный, дивный Рим. Замечательное место, Эндерби, нет такого другого. Слушайте, Эндерби. Я сегодня иду на прием. В доме принчипессы такой-то сякой-то. Не хотите пойти? Со своей миссис? Или вам надлежит лечь пораньше сегодня, в законную брачную ночь? — И затряс головой. — Ларошфуко или какой-то другой распроклятый подлец сказал, что не следует в первую ночь это делать. Да что он знал об этом, а? Сплошь гомосексуалисты. Все писатели гомосексуалисты. Должны быть. Точно. К черту писание. — Вылил на пол последние капли «Стреги», объяснив: — Ларам и пенатам, пускай идут, лакают. Излияние, то бишь возлияние. Придут лакать, огромные чертовы псы. Еще «Стреги».
— Вам не кажется?.. — осторожно спросил Эндерби. — Я хочу сказать, если вы в гости идете…
— Еще не один час пройдет, — сказал Роуклифф. — Часы, часы, часы. До начала у вас полно времени, чтоб с этим разделаться и не раз кончить. То есть если сумеете. Знаете, креветки дьявольски помогают. Мощный усилитель мужской потенции. Scampi[66]. Данте, — крикнул он, — пусть креветок пришлют вот этому синьору. Благослови его Бог. — И покачнулся на стуле. Данте сказал:
— Вы сегодня поженаты? Очень хорошо. «Стрега» насчет заведения. — И налил. — Salute, — поднял тост. — Molti bambini[67], — подмигнул он.
— Симпатичный марака, — сказал Роуклифф и выпил.
— Вы говорите очень неделикатные вещи, — заметил, выпив, Эндерби. — По справедливости надо вас отдубасить.
— О боже боже боже мой, нет, — сказал Роуклифф, тряся головой и зажмурившись. — Только не сегодня. Слишком жарко. Расе, расе[68], это город мира. — И стал засыпать.
— Troppo[69], — констатировал Данте. — Черес-чук. Ведите его на дом.
— Нет, — сказал Эндерби. — Проклятье, у меня медовый месяц. В любом случае, он мне не нравится. Гнусный тип.
— Зависть, — пробормотал Роуклифф, не открывая глаза, склонив голову к стойке. — Я во всех антологиях. А он нет. Я поэт популярный. Известный, любимый и уважаемый всеми. — А потом аккуратно, словно проделывал профессиональное акробатическое упражнение, рухнул вместе со стулом на толстый ковер бара; казалось, падал очень медленно, выполняя ротационную фигуру. Шум, хотя и глухой, оказался достаточно громким, чтобы привлечь из вестибюля отеля мужчин в тесных костюмах. Они очень быстро говорили по-итальянски и с ненавистью смотрели на Эндерби.
— Я к этому никакого отношения не имею, — объяснил Эндерби. — Он был пьян, когда я с ним встретился. — И сердито добавил: — Проклятье. У меня медовый месяц.
Двое мужчин наклонились над Роуклиффом, и Эндерби выпал шанс бросить на город интимный, не туристический взгляд: у одного мужчины была перхоть, у другого на шее шрам от ожога. Роуклифф открыл один глаз и сказал очень четко:
— Не верьте ему. Он шпион, притворяется, будто медовый месяц проводит. Напоил меня, штобы выведать гошударшственные шекреты. Рашкрыт жаговор по швержению итальяншкого правительштва. Бомбы шпрятаны на Форуме Траяна и в темпио ди Вешта[70].
— Мою жену оставьте в покое, — предупредил Эндерби.
— А, жену, — сказал один мужчина. — Capito[71].
Все разъяснилось. Обманутый муж Эндерби свалил Роуклиффа гневным справедливым ударом. Дело чести. Роуклифф захрапел. Двое мужчин ушли к себе в вестибюль искать для него такси. Данте вопросительно взглянул на Эндерби:
— «Стрега»?
— Si[72], — сказал Эндерби. Подписал счет и сосчитал количество других подписанных счетов, все за «Стрегу». Поразительно. Надо поосторожнее, не все на свете деньги у него в кармане. Но разумеется, рассуждал Эндерби, после медового месяца он начнет зарабатывать. Капитал для того существует, чтоб его тратить, говорит Веста.
Роуклифф перестал храпеть, чмокнул губами и объявил:
— Ты сотворил надо мною неправое дело, о Эндерби. — Глаза не открыл. — Я зла не желал. Просто хотел должным образом увенчать твою брачную ночь. — И издал громкий храп. Вошел шофер такси с квадратными усами прямо под носом, снисходительно покачал головой и стал поднимать Роуклиффа за плечи. Явились штатные служащие отеля, включая мелкую сошку в некогда белых куртках, Данте встал в позу за стойкой. Все ждали, чтоб Эндерби взял Роуклиффа за ноги.
— Знаю, — сказал Эндерби, — я inglese, и он inglese, на том дело, черт побери, и кончается. Я его не выношу, понимаете? Iо, — сказал он, мучительно составляя фразу, — non voglio aiutare[73]. — Все улыбнулись, решив показать, что ценят старания англичанина использовать их прекрасный язык, но смысл проигнорировали, возможно, отлично наученные храпевшим Роуклиффом. — Не буду помогать, — повторил Эндерби, хватая Роуклиффа за ноги. (В левой подметке была дыра.) — Разве так проводят проклятый медовый месяц, — сказал Эндерби, помогая, весьма неуклюже, нести Роуклиффа к выходу. — Особенно в Риме. — И пока он шел, пыхтя, высокопоставленные представители отеля глубоко кланялись или мягко кивали с улыбками.
Виа Национале огненно пылала солнцем, блистала людьми. Пульсировало ожидавшее у бровки тротуара такси, Эндерби с шофером потели, прокладывая себе путь, Роуклифф все храпел. Какой-то нищенствующий монах загромыхал своим ящиком перед Эндерби.
— Катись, — сказал Эндерби.
Американец — не из сортира — нацелил аппарат, чтобы щелкнуть.
— Катись, — рявкнул измученный Эндерби.
Шофер поднял колено в поддержку храпевшего тела, освободил руку, открыл пассажирскую дверцу. Роуклиффа впихнули, свалили тюком, как стирку за полгода.
— Всё, — сказал Эндерби. — Дальше сами.
— Dove[74]? — спросил таксист.
— О Господи, да, куда? — И, по-прежнему пыхтя, грубо тряся неподвижного Роуклиффа, Эндерби принялся громко кричать: — Где ты живешь, гад? Давай, говори, где.
Роуклифф очнулся с ошеломляющей резкостью, будто просто прикидывался отключившимся, чтоб его донесли до такси. Голубые глаза, вполне ясные, бросали на Эндерби отблески римского неба.
— Тибр, Отец-Тибр, — молвил он, — которому молятся римляне. Виа Манчини у понте[75] Маттеотти.
Шофер с легкостью это усвоил.
— О мир, о жизнь, о время, — продекламировал Роуклифф. — Здесь покоится тот, чье имя не на воде написано. Во всех антологиях. — И вернулся к тяжелому сну, храпя громче прежнего. Эндерби поколебался, потом сделал то, чего от него, видно, ждал весь ждавший мир: грубо толкнул Роуклиффа и занял место рядом. Тронулись. Шофер прогудел по виа Национале, резко свернул на виа Четвертого Ноября. Когда мчались на север по виа дель Корсо, Роуклифф вновь вполне ожил, степенно сел и сказал:
— Найдется у вас, дорогой Эндерби, такая вещь, как сигарета? Предпочтительно английская.
— Пришли в себя? — спросил Эндерби. — Может, я вот тут выйду, а вы сами домой доедете?
— Вон там слева, — указал Роуклифф, — увидите Пантеон, если хорошенько присмотритесь. А вон там, — рука его метнулась вправо, стукнув Эндерби, — вниз по скромной улице, в самом конце, фонтан Треви. Бросьте туда монетку, вас сфотографируют зазывалы в беретах. Будьте другом, дайте сигарету. — Эндерби протянул последнюю помятую «Сениор Сервис». Не поблагодарив, Роуклифф взял ее, прикурил твердокаменными руками. — Теперь, Эндерби, мы подъезжаем к пьяцца Колонна. Вон сама колонна, а наверху, видите, Марк Аврелий.
— Могу тут выйти, — предложил Эндерби, — и вернуться в отель. Понимаете, жена моя совсем плоха.
— Правда? — сказал Роуклифф. — Плоха в каком отношении? Впрочем, большая любительница поэтов. Могу утверждать. Ей всегда нравился мой стишок в антологиях. Знаете, Эндерби, вы вполне можете стать великим. Она любит примазываться к победителям. Примазалась к одному замечательному, только в области спорта. Понимаете, поэты не погибают, в отличие от автогонщиков. А теперь приближаемся к виа Фламиния, а вон там, как вы видите, сам Отец-Тибр, куда плюют римляне.
— Что вы знаете о моей жене? — спросил Эндерби. — Кто вам сказал, что я женился на Весте Бейнбридж?
— Было в популярных газетах, — объяснил Роуклифф. — Не видели? Может, она от вас прятала. Сообщали: вдова Пита Бейнбриджа снова выходит замуж. Видно, популярные газеты вас почти не знают. Только, знаете, после смерти биографию напечатают. Биографий Пита Бейнбриджа не было, так что вдова осталась неизвестной читателям «Дейли миррор». Ах, вот и виа Манчини. — Он стукнул в стеклянную перегородку, совершая перед шофером гротесковые боксерские жесты. Шофер кивнул, дико вильнул, остановился у маленькой пивной. — Вот тут мое скромное жилье, — сказал Роуклифф. — Наверху.
— Вы в самом деле так думаете? — спросил Эндерби. — Я считал, может быть, возбуждаю в ней некий инстинкт хранительницы. А я ее очень люблю. Очень-очень люблю. Влюблен, — признал он. Роуклифф кивал и кивал, расплачиваясь с шофером. Казалось, он абсолютно оправился после запоя «Стреги». Два поэта стояли на теплой улице, охлаждаемой речным воздухом. Эндерби упустил такси и сказал: — Черт. Я такси упустил. Надо к жене вернуться. — И напомнил себе, что не любит Роуклиффа за присутствие во всех антологиях. — Поразительно, — заметил он, — как вы, черт побери, перехватили инициативу. Мне вообще не следовало с вами ехать.
— «Стрега», — сказал Роуклифф, кивая, — очень быстро выходит из моего организма. Думаю, раз уж мы тут, еще ее выпьем. Или литр-другой фраскати.
— Мне надо вернуться. Может, ей уже лучше. Может, гадает, куда я девался.
— Спешить некуда. Знаете, новобрачная и должна ждать. Должна лежать на прохладных простынях с ароматом лаванды, пока муж напивается до импотенции. Ночь Тоби, знаете. Так обычно говорят. В честь Товии из апокрифов. Пошли, Эндерби. Я одинок. Брат поэт одинок. И я вам кое-что расскажу.
— О Весте?
— О нет. Гораздо интересней. О вас и о вашей поэтической судьбе.
И они вошли в заведеньице. Там было темно и тепло. Стены с псевдоэтрусской вульгарной мозаикой: пляшущие мужчины и женщины в профиль; стеклянные кувшины с вином, высокие мутные стаканы. Старик эпохи Виктора-Эммануила посасывал пышный ус; два мошенника с искренним взором, круглыми физиономиями и, несмотря на жару, в пальто, мошеннически перешептывались друг с другом. Шамкавшая старуха, с усилием совершавшая каждый шаг, принесла литр мочи двум английским поэтам.
— Salute, — сказал Роуклифф. Содрогнулся при первом глотке, второй пошел лучше. — Скажите, Эндерби, — попросил он, — сколько лет вы мне дали бы?
— Лет? О, около пятидесяти.
— Пятьдесят два. А когда, по-вашему, я писать перестал?
— Я не знал, что перестали.
— О, давно, давным-давно. Эндерби, я ни строчки не написал с двадцати семи лет. Удивляетесь, да? Но писать стихи очень трудно, Эндерби, очень-очень трудно. Писать стихи после тридцати способны только те, кто выдерживает конкуренцию, понимаете, в еженедельных газетах. Можно, конечно, добавить парней с обезьяньими железами, в том числе Йейтса, только это игры не делает, клянусь богом. Величайший поэт-старик нашего времени, богом клянусь, — чертов Воронов. А мы, остальные? Драматических поэтов больше нет, Эндерби, и, ха-ха, безусловно, поэтов эпических. Значит, все мы — лирические поэты, а долго ли длится лирический порыв? Вообще нисколько, мой мальчик, максимум десять лет, черт возьми. Знаете, не случайно все в молодости поумирали, главным образом почему-то в Средиземноморье. Дилан, конечно, в Америке умер, только, если подумать, Атлантика — то же Средиземноморье. Я хочу сказать, если подумать, американская цивилизация типа приморской, совсем не речная. — Роуклифф покачал головой пьяным жестом: фраскати разбудило заснувшую «Стрегу». — Я хочу сказать, Эндерби, что вам дьявольски повезло вообще писать стихи в таком возрасте… сколько вам?
— Сорок пять.
— В сорок пять лет. Я хочу сказать, вы чего сейчас ждете? А? — Он позволил фраскати снова лениво набулькаться к себе в стакан. Снаружи пылал и струился дневной римский свет. — Не обманывайтесь, милый мальчик, насчет длинных повествовательных поэм, черт их побери, пьес и прочей белиберды. Вы — лирический поэт, а лирическому дару приходит пора умереть. Как знать? Может, он уже умер. — Роуклифф прищурился на Эндерби над стеклянной флягой фраскати, которая плыла и плясала у него в руке. — Не ждите больше озарений, внезапно снизошедшего безумного вдохновения, Эндерби. Тот стишок, что во всех антологиях, единственный, которым я живу и собираюсь жить дальше, был написан в двадцать один год одному моему дружку, понимаете, Эндерби. Молодость. Единственная стоящая вещь. — Он печально кивнул. Простой символ юности, как в кино, дал оркестровое сопровождение его словам, мелькнув мимо на улице, — девушка-римлянка с высоко поднятой головой, черными волосами и дымчатыми бакенбардами; грудь вздернута, водянисто-текучая талия вроде ляжек животных у Гарри Плафмена. — Да, да, — подтвердил Роуклифф, — молодость. — Выпил фраскати, вздохнул. — Вы не чуете, Эндерби, что ваш дар умирает? Знаете, этот дар присущ юности и ничем не обязан ни опыту, ни знаниям. Фактически, атлетический дар, спортивный. — Он открыл перед Эндерби рот, демонстрируя кривые зубы разного цвета. — Что вы будете делать, Эндерби, что будете делать? Конечно, для мира все это ничто. Если бы мир пришел и услышал, как мы оплакиваем смерть лирического дара Эндерби, то принял бы нас не просто за сумасшедших. Он подумал бы, Эндерби, будто мы, Эндерби, — он подался вперед, зашипел, — на самом деле о чем-то другом говорим под невинным прикрытием. Может быть, счел бы нас коммунистами.
— А, — сказал Эндерби, испуганный призраком приближавшейся импотенции, может, даже уже наступившей, — вы что делаете?
— Я? — Роуклифф опять выпил. Плечи его спазматически дергались, перемалывали воздух, как спагетти. — Я, Эндерби, разбавлением занимаюсь. Большой мастер. В чистом виде больше ничего не получишь. Вот вопрос: живем мы или частично живем? Или, — сказал он, — может быть, — неожиданно заморгал в убийственном свете перед щелкающими камерами, вскочил во весь рост, отпрянул к стене, как к утесу, вытянул тощие руки, со страшным лицом, — умираем? — Потом рухнул на стол на манер голливудского любителя абсента, но никто из римлян не обратил никакого внимания.
— Ну, — сказала Веста, — что же это вы делаете, что себе думаете? И где это вы были? — Эндерби себя чувствовал как бы провинившимся пасынком — единственное ему реально известное чувство, — глядел на нее, повесив голову. Она была великолепна в платье цвета бледно-желтого нарцисса с широкой юбкой, с блестящими гладкими волосами цвета пенни, с летне-медовой кожей, вновь здоровая, глаза зеленые, широкие, грозные; в высшей степени великолепная и желанная женщина. Эндерби сел и пробормотал:
— Понимаете, это все Роуклифф.
Она скрестила обнаженные руки.
— Вы же знаете Роуклиффа, — мямлил Эндерби и добавил в смиренной попытке смягчить преступление из преступлений: — Он во всех антологиях.
— Скорей всего, во всех барах, если я что-нибудь знаю про Роуклиффа. И вы с ним. Честно предупреждаю вас, Харри. Держитесь подальше от таких, как Роуклифф. Так или иначе, что он делает в Риме? Все это звучит для меня подозрительно. Что он вам говорил? Что рассказывал?
— Сказал, лирический поэт все равно что автогонщик; что вы снизошли до брака со мной для того только, чтоб упоминаться во всех биографиях, разделить мою вечную славу и почести; сказал, мой поэтический дар умирает, и что я после этого буду делать. Потом отключился, пришлось помогать выносить его, и от этого мне очень пить захотелось. Потом долго не мог такси поймать, не мог вспомнить названье отеля. И поэтому опоздал. Но, — заметил Эндерби, — вы ведь не говорили, когда возвращаться. Правда? Вообще ничего не сказали.
— Вы отправились с аккредитива деньги получить, — напомнила Веста. — Должны были здесь оставаться, со мной. Прекрасное начало медового месяца, шляться с такими, как Роуклифф, пить и выслушивать ложь о жене.
— Почему ложь?
— Этот мужчина прирожденный лжец. Все время пытается делать мне пассы.
— Когда? Откуда вы его знаете?
— Ох, он был каким-то там журналистом, — объяснила Веста. — Вечно всем мешал да болтался вокруг. Может быть, здесь с кино связан, просто рядом толчется. Смотрите, — очень сурово предупредила она, — впредь без меня никуда не ходите, понятно? Вы просто не знаете света и слишком наивны для жизни. Мое дело за вами присматривать, нести за вас ответственность.
— А мое? — спросил Эндерби.
Она чуть улыбнулась. Бутылка фраскати, заметил Эндерби, оставленная им в спальне на три четверти полной, теперь опустела. Веста безусловно поправилась. На улице стоял мягкий ранний римский вечер.
— Что сейчас будем делать? — спросил Эндерби.
— Пойдем поедим.
— Рановато немножечко, правда? Не считаете, что надо выпить чуточку перед едой?
— Вы достаточно выпили.
— Ну, — сказал Эндерби, вновь взглянув на пустую бутылку фраскати, — вы и сами неплохо заправились. Да еще на голодный желудок.
— Ох, я внизу пиццу заказывала и пару клубных сандвичей[76], — призналась Веста. — С голоду умирала. И сейчас умираю. — Вытащила из гардероба накидку цвета бледно-желтого нарцисса, прикрыть голые плечи от вечерней прохлады или от итальянской похоти. Она распаковала вещи, заметил Эндерби; плохо ей было очень недолго. Они вышли из спальни, спустились по лестнице, не доверяя хрупкому филигранному очарованию лифта. В коридорах, в вестибюле отеля мужчины откровенно восхищались Вестой. Щипачи за попку, вдруг понял Эндерби, все итальянцы — щипачи за попку, чтоб их разразило; вставала проблема. Наверно, в такой отсталой стране до сих пор бывают дуэли по вопросам чести? Эндерби шел по виа Национале, отставая от Весты на шаг, кисло улыбаясь рекламным щитам на фонарных столбах. Неприятностей не хотелось. Он никогда раньше не понимал, какую ответственность накладывает жена.
— Мне говорили, — сказала Веста, — есть одно заведеньице на виа Торино. Харри, чего вы отстаете? Дурака не валяйте, на вас люди смотрят.
Эндерби подскочил к ней сбоку, но тайком от нее прикрывал на ходу ее зад ладонью, установленной в шести дюймах, как бы греющейся у огня.
— Кто говорил?
— Джиллиан Фробишер.
— Эта самая женщина, — объявил Эндерби, — чуть не убила меня своим сюрпризом из спагетти.
— Вы сами виноваты. Тут направо.
Ресторан был полон мутных зеркал, сильного запаха подвальной сырости и очень старых хлебных крошек. Официант с сизыми впалыми щеками доверия не внушал, украдкой пытаясь заглянуть в decolletage[77] Весты. Эндерби недоумевал, почему итальянскую кухню окружает такой ореол славы. В конечном счете она сводится к немногочисленным алломорфным формам пасты и нескольким соусам; единственное мясо в Италии — телятина. Тем не менее Эндерби прочел «говяжий бифстек» и заказал со слабой надеждой. Изголодавшаяся Веста уминала минестроне, тарелку равиоли, какое-то месиво из спагетти, макала листья артишоков в масляный уксус. Эндерби начал разогреваться после пол-литра фраскати, когда прибыл мнимый бифштекс. Белый, тоненький, на холодной тарелке.
— Questo é vitello[78], — сказал официанту Эндерби, который до жизни с Вестой довольствовался жуткой похлебкой и зачерпывал ложкой из банки с джемом, теперь же смотрел на бифштекс с неумолимым гневом гастронома.
— Si, é vitello, signore[79].
— Я бифштекс заказывал, — вскричал разъяренный Эндерби, неотесанный англичанин за границей, — а не какую-нибудь недоделанную телятину. Да и телятина пережарена, — добавил он с поэтической заботливостью о точности выражений. — Пусть придет управляющий.
— Ну-ка, Харри, — одернула его Веста. — Хватит нам на один день скандалов, правда? Видите, на вас люди смотрят. — Вокруг с выпученными глазами рубали едоки-римляне, самозабвенно болтая друг с другом. Эндерби они игнорировали; видели таких типов раньше. Пришел управляющий, маленький, жирный, с шустрыми черными глазами, тяжело дышавший от подавленного негодованья на Эндерби.
— Я, — сказал Эндерби, — заказал говяжий бифштекс. А это телятина.
— Это одно и то же, — сказал управляющий. — Теленок — корова. И говяжий бифштекс из коровы. Значит, говядина — это телятина.
— Вы, — сказал Эндерби, разъяренный силлогизмом, — пытаетесь меня учить, что бифштекс, а что нет? Пытаетесь научить меня правильным выражениям на моем собственном языке, черт возьми?
— Харри, что за выражения, что за выражения, — неуместно заметила Веста.
— Да, на моем собственном языке, черт возьми! — вскричал Эндерби. — Он думает, будто владеет им лучше меня. И вы собираетесь за него заступаться?
— Все правильно, — заявил управляющий. — Не ешьте, но все равно платите. Заказали — платите.
Эндерби встал и сказал:
— О нет. О, в высшей степени определенно нет, будь я проклят. — Глянул сверху вниз на Весту, перед которой стоял замороженный забальоне. — Я не стану платить, — сказал он, — за то, чего не заказывал, а если я чего не заказывал, так вот этой мертво-бледной апологии. Пойду поем в другом месте.
— Харри, — приказала она, — сядьте. Ешьте, что дают. — И капризно поковыряла ложечкой в стакане с забальоне. — Не устраивайте такого шума из ничего.
— Не люблю бросать деньги на ветер, — заявил Эндерби, — и не люблю сносить оскорбления от иностранцев.
— Это вы иностранец, — заметила Веста. — Сядьте сейчас же.
Эндерби раздражительно сел. Управляющий ухмыльнулся с триумфом иностранца, собрался уйти, разрешив глупый спор; в любом случае мясо было телятиной, нечего спорить. Эндерби, видя ухмылку, вновь встал, сильней разозлился.
— Не сяду, черт возьми, — сказал он, — и он знает, что может сделать вот с этой вот дрянью. Если вы остаетесь, я — нет.
В глазах Весты одно выражение быстро сменялось другим, вроде переставляемых кондуктором табличек с автобусным номером.
— Ладно, милый, — сказала она. — Дайте денег за обед расплатиться. Встретимся через пятнадцать минут в открытом кафе.
— Где?
— На пьяцца ди как-ее-там, — сказала она, ткнув пальцем.
— Република, — услужливо подсказал официант.
— Не суйте свой чертов нос, — сказал Эндерби. — Ну, хорошо. Там встретимся. — И оставил крупную банкноту в несколько тысяч или миллионов лир. С лицевой стороны бумажки на него с немым призывом поглядывала какая-то аллегорическая дама.
Через пятнадцать минут Эндерби сидел и мрачно глазел на подсвеченный разноцветный фонтан, наблюдая за «веспами», «фиатами» и серьезными толпами, почти прикончив бутылку фраскати. Ее подали теплой; пришлось ему заметить официанту на террасе:
— Non freddo[80].
Официант подтвердил, что бутылка non freddo, и с улыбкой ушел. Теперь бутылка стала еще менее freddo, чем когда-либо. Вечер стоял теплый. Эндерби внезапно почувствовал сильную тоску по старой жизни с заваренным чаем, поэзией в сортире, сексом с помощью онанизма. Потом, чуть не разревевшись, понял, что ведет себя по-ребячески. Все правильно, мужчина должен жениться, проводить медовый месяц средь римских фонтанов; он должен хотеть повзрослеть. Но Роуклифф что-то сказал о поэзии — дар юный и, значит, незрелый, сродни дарам скорости и боевой готовности, превращающим мужчину в автогонщика. Неужели этот дар уже его покинул, продержавшись, наверное, дольше положенного? Если так, тогда что он, Эндерби, такое, чем станет?
Явилась Веста, образец красоты из «Вога» на фоне залитых светом фонтанов. Польщенный и неожиданно возгордившийся Эндерби встал. Она села и говорит:
— Мне там было по-настоящему стыдно за вас. Абсолютно неприличное поведение. Естественно, я ваш заказ оплатила. Ненавижу мелкие стычки из-за денег.
— Деньги мои, — напомнил Эндерби. — Не надо было вам этого делать.
— Ладно, деньги ваши. Только прошу вас помнить о моем достоинстве. Я не позволю ни вам, никакому другому мужчине дурой меня выставлять. — И смягчилась. — Ох, Харри, как вы могли, как вы могли так поступить? Да еще в первый день медового месяца. Ох, Харри, как вы меня расстроили.
— Вина выпейте, — предложил Эндерби. Официант склонился с римской ухмылкой, бросив смелый восторженный взгляд на синьору. — Последняя, — заявил Эндерби, — дьявольски caldo[81]. На этот раз я хочу freddo, ясно? Freddo, черт побери. — Официант удалился, косясь и ухмыляясь. — До чего ненавижу этот проклятый город! — сказал Эндерби, неожиданно задрожав. Веста тихонько захныкала. — В чем дело? — спросил он.
— Ох, я думала, все будет по-другому. Думала, вы другим будете. — Она вдруг окостенела, глядя прямо перед собой, будто бы в ожидании какого-то психического явления. Эндерби смотрел на нее открыв рот. Ее рот тоже открылся, как рот спиритического медиума, и издал нечто вроде приветствия краснокожих индейцев, «смотри»:
— Эээээииии.
Эндерби слушал в молчаливом недоумении, открыв рот еще шире. Это была отрыжка.
— Ох, — сказала она, — извините. Что я могла поделать, правда, ничего.
— Да ладно, — милостиво сказал Эндерби. — Всегда можно извиниться.
Барррррп.
— Извините, пожалуйста, правда, — извинилась Веста. — Знаете, кажется, я не слишком-то хорошо себя чувствую. Наверно, от смены еды. — Роррррп. Аууууу.
— Не хотите вернуться в отель? — с готовностью спросил Эндерби.
— Наверно, придется. Борррффф. Какой неудачный день, правда?
— Ночь Тоби, — с облегчением сказал Эндерби. — Как у Товии из апокрифов. — И взял ее под руку.
— Пьяцца Сан-Пьетро, — сказал гид. — Площадь Святого Петра. — Это был молодой римлянин, стриженный ежиком, дерзкий, смело поглядывавший на дам. — Пляс Сен-Пьер. Санкт-Петер пляц. — Вульгарно, решил Эндерби. Претенциозно. Гид заметил кислую мину Эндерби, заметил, что не произвел на него впечатления. — Плаза Сан-Педро, — сказал он, бросив козырную карту.
Это была настоящая лихость, и Веста была одета по-настоящему лихо, в бежевое полотно, что-то строгое и дорогое, от Бераньера. Поправлялась она с редкостной силой. Вчера вечером расстроенный желудок нес белиберду, брызжа слюной, точно слабоумный ребенок, даже когда она время от времени засыпала. Эндерби лежал в чистой пижаме, толерантно слушал, видя сквозь прозрачную чистую, но несоблазнительную ночную рубашку стройную спину и бедра, вздымавшиеся время от времени от подступающих ветров при откинутых покрывалах в связи с теплой ночью. Когда лампа у кровати была выключена, жена стала просто тючком звуков, которые пробуждали у Эндерби слабую ностальгию по временам одиночества. Поэтому он заснул, грезя о кастрюлях с похлебкой, об искусстве стихотворчества и о море. В три тридцать по своим наручным часам с подсветкой (свадебный подарок) проснулся с отчаянно, бешено колотившимся из-за «Стреги» с фраскати сердцем, слыша, как она все так же шипит и изо всех сил грохочет. Однако в девять, проснувшись от прихотливого дорожного движения на виа Национале, он увидел ее у окна за едой.
Основная задача осталась незавершенной. Моргая и щурясь, Эндерби заметил, что спал со вставленными зубами, задумался, куда дел контактные линзы, набрался отваги от утренних красок и вымолвил:
— Не вернетесь ли на какое-то время в постель? Я имею в виду, это на самом деле ваш долг. — Весьма остроумная стихотворная импровизация пришла ему в голову, опровергнув обреченно поднятый палец Роуклиффа; Муза пока еще полностью с ним:
По определению, брачный контракт,
Что б там нотариус ни говорил,
Претворяется в законный акт,
Только подписанный моей ручкою, полной чернил.
Произнести стихи вслух не решился. Как бы там ни было, Веста сказала:
— Я давно уж не сплю. Съела омлет в ресторане, теперь ем завтрак, который заказала для вас. Просто круассаны с джемом и всякие вещи. Слушайте, мы отправляемся на небольшую экскурсию. По-моему, будет забавно. Рим увидим. Собираемся в девять тридцать, лучше поспешите. — Взмахнула билетами во вспышке римского утра, потом как бы хрустнула черствым хлебом. — Не вижу особого энтузиазма. Не желаете Рим увидеть?
— Нет. — Задай прямой вопрос, услышишь прямой ответ.
— Вы называете себя поэтом. Считается, что поэты полны любопытства. Я совсем вас не понимаю.
Как бы там ни было, вот они выходят из автобуса средь бела дня, чтоб осматривать обелиск в Цирке Нерона. Гид, признавший Эндерби испанцем, заискивающе объявил:
— Obelisco del Circo de Nerone[82].
— Si, — сказал незаинтересованный Эндерби. — Слушайте, — обратился он к Весте, — я совсем зажарился. Должен выпить. — Но питаться приходилось лишь плотными блюдами — ворота Пинчио и галерея Боргезе, терраса Пинчио и мавзолей Цезаря Августа, Пантеон, и здание Сената, и Дворец правосудия, и замок Святого Ангела, и виа делла Кончилационе. Эндерби вспомнил, что сказал о Риме великий поэт Клаф[83]: «Хлам», — сказал он.
— Хлам, — процитировал Эндерби.
— Знаете, — сказала Веста, — я абсолютно уверена, вы — мещанин.
— Жаждущий.
— Ладно. Так или иначе, экскурсия почти закончена. — Дня не прошло, как у Эндерби выработался слепой инстинкт относительно питейных заведений, и он повел Весту вниз по улице Примирения. Они вскоре весьма хладнокровно сидели и пили фраскати. Веста вздохнула и изрекла:
— Мир.
Эндерби поперхнулся вином.
— Простите, не понял?
— Этого всем нам хочется, правда? Мира. Мира, порядка. Уверенности, определенности. Успокоенной и примирившейся с порядком души. — Кожа ее была так чиста, молода под широкополой шляпой (тоже из мадридского ателье молодого искусного Бераньера), тело изящно украшено; изысканно раздутые ноздри пышущего жеребца; искренние, но умные зеленые глаза. — Мир, — повторила она и еще раз вздохнула: — Ох.
— Что там было за слово? — переспросил Эндерби.
— Мир.
— Нет, нет, другое, потом.
— А потом ничего. Вам послышалось, Харри, мой мальчик.
— Как вы меня назвали?
— Да что с вами, действительно? Видно, особая магия Рима так странно действует… Вдобавок вы пьете гораздо, гораздо больше, чем в Англии пили.
— Вы желудок мне вылечили, — признал Эндерби. — Открылась возможность принимать любое количество без каких-либо болезнетворных эффектов. Диета, на которую вы меня посадили, безусловно, творит чудеса. — Радостно ей кивнул, налил еще вина из фляги.
Веста казалась слегка раздосадованной, шире раздула ноздри, заметила:
— Я говорю о мире, а вы о желудках.
— Об одном желудке, — уточнил Эндерби. — Поэты говорят о желудках, а редакторы «Фема» о мире. Видимо, справедливое разделение.
— Возможно, нас ждет очень мирная жизнь, — продолжила Веста, — нас с вами. Красивый дом в Суссексе с видом на холмы. Там все дышит миром, правда?
— Вы слишком молоды, чтобы желать мирной жизни, — сказал Эндерби. — Мирная жизнь для старцев.
— Ох, все мы ее желаем, — с жаром возразила Веста. — Знаете, я здесь мир чувствую, в Риме. Такой мир, такой мир.
— Такой кусок мира, — буркнул Эндерби. — Pax Romana[84]. Когда они что-нибудь разоряли, объявляли, что мир пришел. Полная белиберда! Это была вульгарная гадкая цивилизация, которая обрела величие, только прячась под всякими отклонениями. Мир? Да они представления не имели о мире. Бегали облегчаться в тошниловки после дроздов в сиропе с заливными перепелами да приставали к мальчишкам-рабам между сменой блюд. Это знали. Знали катарсис при виде женщин, разрываемых на куски на арене голодными вшивыми львами. Но мира не знали. Если б они успокоились и на тридцать секунд призадумались, услыхали бы множество голосов, объясняющих, что их Империя — распроклятое надувательство. Не говорите мне об этом чертовом pax Romana. — Эндерби хрюкнул, не понимая, почему это его так задело.
Веста терпеливо улыбнулась.
— Это не настоящий Рим. Это Рим голливудский.
— Настоящий Рим и был в высшей степени голливудским, даже больше, — сказал Эндерби. — Что от него фактически теперь осталось? Куча скульптурных мастерских. Большие вульгарные разбитые колонны. Имперская слава П. Вергилия Марона, который поддакивал августам, да все ныне рухнувшие триумфальные арки. Сапоги сапоги сапоги сапоги маршируют и маршируют. Рим. — Эндерби сделал соответствующий, хоть и вульгарный древнеримский жест. — Огромный червивый сыр с чрезмерным количеством неправильных глаголов.
Веста все улыбалась, несколько похоже на Богоматерь в видении, посетившем Эндерби в скользкий день путешествия в Лондон с ожидавшей рожденья поэмой.
— Вы просто не слушаете. Просто мне не даете возможности высказаться.
— Проклятый римский мир, — хрюкнул Эндерби.
— Я не про ту Империю. Я про ту, что росла в катакомбах.
— О господи, нет, — пробормотал Эндерби.
Веста выпила еще вина. Потом очень мягко рыгнула. И не извинилась; видно, не заметила. Эндерби вытаращился на нее.
— Вам не кажется, что это как бы возвращенье домой? Знаете, возвращение блудного сына. Не стал участвовать в строительстве Империи и с тех пор жалеешь. Не отрицайте, все это присутствует в вашей поэзии.
Эндерби глубоко задышал.
— В какой-то мере, — сказал он, — все жалеют о крушении вселенского порядка. Широкая зубастая улыбка. Но это улыбаются мертвые зубы. Нет, даже не мертвые. Искусственные. Никогда живыми не бывшие. В любом случае, для меня.
— Врете.
— Что вы об этом знаете? — грубо бросил Эндерби.
— О, больше, чем вы думаете. — Она прихлебывала фраскати, словно очень горячий чай. — Вы никогда мной особенно не интересовались, правда? Фактически, нет. Так и не потрудились что-нибудь узнать обо мне.
— Мы не так давно знакомы, — слегка виновато объяснил Эндерби.
— Достаточно давно для брака. Нет, честно признайтесь. Для Эндерби всегда важен был Эндерби. Для Эндерби на Эндерби все кончается.
— Фактически, это неправда, — усомнился Эндерби. — Допустим, я считал важной свою работу. Но не себя. Не особенно думал о личных удобствах, о славе, почете.
— Вот именно. Вы слишком интересуетесь самим собой, чтоб интересоваться такими вещами. Эндерби в пустыне. Эндерби вечно вращается и вращается в уборной.
— Это несправедливо. Вообще неправда.
— Видите? Действительно начинаете проявлять интерес. Готовы к долгой хорошей беседе об Эндерби. А допустим, что мы вместо этого поговорим обо мне?
— С удовольствием, — согласился Эндерби, примиряясь с отставкой. Веста толкнула свой стакан с вином, сложила на столе тонкие руки.
— Как, по-вашему, меня воспитывали?
— О, — сказал Эндерби, — тут уж нам все известно, не так ли? Хороший шотландский дом. Кальвинизм. Еще одна имперская мечта, от которой пришлось отказаться.
— Ох, нет, — поправила Веста, — вовсе нет. Не кальвинизм. Католичество. Точно так, как у вас. — И сладко улыбнулась.
— Что? — ужаснувшейся птицей прокричал Эндерби.
— Да, — подтвердила Веста, — католичество. Знаете, в Шотландии есть католики. Кучи и кучи. Я монахиней должна была стать. Ну, вот вам сюрприз, да?
— Собственно, нет, — сказал Эндерби. — Учитывая первоначальную предпосылку, которую я пока еще пробую переварить, никакой не сюрприз. Вы носите одежду на манер монахини.
— До чего странное утверждение! — сказала Веста. — Что вы, интересно, имели в виду?
— Почему вы раньше не сказали? — спросил возбужденный Эндерби. — Я хочу сказать, о, мы месяцы прожили под одной крышей, и вы об этом ни слова не проронили.
— Зачем? Никогда кстати не приходилось ни к одной нашей беседе. Любопытства ко мне вы никогда не проявляли. Как я уже говорила, вы для поэта на удивление нелюбопытны.
Эндерби посмотрел на нее с решительным любопытством: поистине, эти открытия внешне преобразили ее, но пока еще она казалась стройной красавицей протестанткой, родственной его юношеским видениям, ангелом освобождения.
— Так или иначе, какая разница, — сказала она. — Я оставила Церковь, когда мне было… ох, когда вышла замуж за Пита. Он, как всем, кроме вас, известно, уже был женат и развелся. Я ушла в любом случае, больше не верю. Пит верил в автомобильные двигатели, можно точно сказать; перед гонками всегда молился, не знаю кому, может, какому-нибудь архетипу двигателя внутреннего сгорания. Пит был милый мальчик. — И осушила стакан.
— Еще вина выпейте, — посоветовал Эндерби.
— Да, немножечко выпью. В Риме особая атмосфера, правда? Не чувствуете? Почему-то поэтому я себя чувствую опустошенной, без веры и прочего.
— Осторожно, — очень четко предупредил Эндерби, наклонясь через стол. — Правда, будьте очень осторожны с подобными чувствами. Рим — просто город, такой же, как все остальные. Город сильно переоцененный, я бы сказал. Верой торгует, как Стратфорд Шекспиром. Только не приходите к мысли, будто великая чистая мать вас домой зовет. Вы живете в грехе. Помните, мы женились только в регистрационной конторе.
— Разве мы живем в грехе? — холодно переспросила Веста. — Я как-то не заметила.
— Ну, — объяснил смутившийся Эндерби, — так подумал бы мир, если бы вдруг узнал и если б был католиком. Фактически, мы, разумеется, как вы сказали, вообще в грехе не живем.
— Вы отошли от всего в свое время, правда? От церкви, от общества, от семьи…
— В конце концов, я поэт, черт возьми…
— Все уходит в уборную, все. Даже акт любви.
Эндерби покраснел до чубарого цвета.
— Что вы этим хотите сказать? Что вам об этом известно? Я просто такой, как все прочие, кроме того, что я не приучен, кроме того, что долгое время, кроме того, что робок и некрасив, кроме…
— Все будет хорошо. Просто обождите. Увидите. — Она протянула ему в знак прощенья холодную добрую руку. Все, что он пожелал бы сказать после этого, было вырвано прямо из легких массивным серебряным рывком когтей, и проглочено, вместе со всеми звуками ангелического полудня внезапным кипучим пиршеством колоколов: гигантские гло́тки белого металла ревели, рычали, метались в небе, дымились; в римских небесах пылало никелевое и алюминиевое пламя колоколов.
После пасты под соусом и оплетенного соломой глобуса кьянти предложение Весты казалось вполне разумным. Ибо она говорила скорей о процессе, чем о его цели: прохладный ветерок вентилятора в движущемся автобусе, остановка для дегустации вин в погребах «Фраскати», широкая простыня озера и albergo[85] на берегу. Потом ранним вечером обратно в Рим. Впрочем, это было больше чем предложение. Когда Эндерби сказал «да», она сразу вытащила из сумки билеты.
— Но, — сказал Эндерби, — разве мы все время пребывания в Риме должны кататься в автобусах?
— Тут много чего посмотреть надо, правда? А вам лучше все посмотреть, просто чтобы потом с уверенностью назвать хламом.
— Хлам и есть. — Сонный после ленча Эндерби особенно имел в виду чудовищную арку Константина, похожую на вечную окаменевшую страницу «Дейли миррор»: одни карикатуры да лапидарные заголовки. Впрочем, озеро наверняка дело другое, тем паче в жестокую утреннюю жару. Собственно, лучше всего потреблять Рим в жидком виде, — вино, фонтаны, Аква Сакра[86]. Эндерби одобрял Аква Сакра. Насыщенная широким набором метеорических химикатов, она здорово высвобождала ветры и предлагала цивилизованный способ опорожнения кишечника. В этом смысле он серьезно рекомендовал ее Весте.
Эндерби изумился, что так много народу собралось ехать к озеру. Сев в автобус у отеля, он сразу приготовился спать, но болтливый полиглот почти тут же велел выходить им и прочим. Находились они на некой безымянной пьяцце, душной, высохшей до костей, с фонтаном на потеху. Там, сверкая на солнце металлом, стояла эскадра автобусов. Мужчины с пронумерованными табличками на палочках скликали свои эскадроны, и послушные люди, хмурясь, морщась в немыслимом свете, маршировали к меткам.
— Наш номер шесть, — сообщила Веста. Они промаршировали.
В интенсивно жарком автобусе экскурсанты жарились на медленном огне, даже Веста пылала, а Эндерби превратился в какой-то фонтан, почти зримо брызжущий потом. К автобусу подошел озабоченный мужчина, прокричав:
— Где доктор Бухвальд? — на множестве языков, отчего весь автобус охватило определенное беспокойное чувство ответственности за пропавшего, заставлявшее ежиться. Перед Эндерби храпел португалец, склонив голову на плечо иностранца-француза; камеры американцев фиксировали все вокруг, как на месте преступления; были там два хихикавших негра; большое ветчинно-розовое немецкое семейство серьезными опечаленными каденциями рассуждало о Риме, сколачивая виды и звуки в длинные составные слова-сосиски. Эндерби закрыл глаза, смутно сквозь дымку дремы чувствуя приятный ветерок, порожденный движеньем автобуса.
— Должно быть, — сонно бросил он Весте, — весьма популярное озеро. Столько народу. — Конвой шел на юг. В автобусном громкоговорителе по-итальянски, по-французски, по-немецки, по-американски звучал голос гида, и перемежавшаяся болтовня претворялась в легком сне Эндерби, как в «Поминках по Финнегану»[87], в успокоительную парахропическую хронику, где присутствовал Константин величайший и полные легкого пива озера бились с бутылками. Он очнулся со смехом, видя виллы, виноградники и пылавшую землю, потом снова заснул, унося в более глубокий сон монетно-чеканный образ Весты, глядевшей на него заботливо, с заботливостью жены фермера, везущей на рынок свинью.
Он очнулся, чмокая сухими губами, в городке необычайной чистоты и прелести, где официанты с салфетками ждали на широкой, полной столов террасе. Затекший, разминавшийся груз автобуса вылезал выпивать. Тут, понял Эндерби, они очень сблизились с фраскати, с вином, которое так боится транспортировки, что перемещается на минимально возможное расстояние. Белая пыль, жара, мерцающая фляга на столе. Эндерби себя вдруг почувствовал хорошо и счастливо. Улыбнулся Весте, взял ее за руку и сказал:
— Странно, что оба мы — ренегаты католики, правда? Правильно вы говорили, немножко похоже на возвращенье домой. Я хочу сказать, мы понимаем такую страну лучше, чем протестанты. Разделяем ее традиции. — Кивнул с милой улыбкой на ребятишек с голодными глазами внизу у лестницы террасы; старший серьезно ковырял в носу. — Даже если больше не веришь, — сказал Эндерби, — обязательно видишь Англию слегка чужой, слегка враждебной. Я хочу сказать, возьмем все храмы, которые у нас украли. Я хочу сказать, пусть берут, наплевать, но надо им время от времени напоминать, что в действительности они по-прежнему наши. — И радостно оглядел полную выпивавших террасу, убаюканный бормотанием чужих фонем.
Веста как-то кисло улыбнулась и говорит:
— Хотелось бы мне, чтоб вы во сне не болтали. На людях, в любом случае.
— Что я такого сказал?
— Вы сказали: «Долой папу», — или что-то вроде. Хорошо, что немногие экскурсанты знают английский.
— Забавно, — удивился Эндерби. — Я даже не думал про папу. Очень странно. Поразительно, до чего доходит подсознание, правда?
— Наверно, вам лучше не спать на этом этапе поездки, — приказала Веста. — На последнем этапе.
— Я хочу сказать, может, кто-нибудь упомянул папу, или еще что-нибудь? — гадал Эндерби. — Смотрите, люди садятся в автобус.
И они последовали за болтовней, слегка улыбаясь товарищам-пассажирам, продвигаясь по проходу в салоне автобуса. Произошел некоторый обмен местами, но это значения не имело: все равно от окна не окажешься дальше чем через сиденье. Впрочем, петушистый французик с брюшком, в холщовом костюме, в панаме, вроде резидента в колонии, певуче набросился с резкими словами на немца, предположительно занявшего его место. Немец пролаял-пробулькал негодующий протест. Тощий подвыпивший португалец, поощренный собратом-латинянином, прицепился к голландцу, невинному красному сыру, заявляя, что при отправлении он сидел совсем рядом с шофером, и теперь после остановки для подкрепления претендует на то же самое место, — смотри, сел своей жирной голландской задницей на мою карту Рима с окрестностями. Европа вступила в войну с самой собой, поэтому техасец с проницательным взглядом крикнул:
— Эй, завязывайте там.
Пришел гид, объявив по-французски, что его еще маленьким в школе учили сидеть там, куда в первый раз посадили. Эндерби кивнул: по-французски звучало разумно и цивилизованно. Гид перевел на американский:
— Сидите, как в школе, каждый на своем месте, не лезьте на чужое. О’кей?
Эндерби мигом разгорячился и пришел в бешенство.
— Кем вы себя считаете, черт побери, папой? — крикнул он. Это был протест англичанина никогда-никогда-никогда[88] против иностранной заносчивости.
— Придержите свой длинный язык… — предупредила Веста.
Слова Эндерби были быстро переведены на множество языков, лица поворачивались взглянуть на Эндерби, одни с любопытством, другие с сомнением, третьи со страхом. Но один пожилой человек типа raisonneur[89], седой и щегольски одетый, встал и провозгласил по-английски:
— Мы услыхали упрек. Нам напомнили о цели нашей поездки. Нельзя разделять католическую Европу.
И сел, а люди стали теплей поглядывать на Эндерби; одна высохшая смугловатая женщина предложила ему кусочек бельгийского шоколада.
— Что он хотел сказать? — спросил Эндерби Весту. — Цель нашей поездки. Мы озеро посмотреть едем, правда? Что у озера может быть общего с католической Европой?
— Увидите, — успокоила его Веста, а потом добавила: — В конце концов, по-моему, лучше вам в самом деле немного поспать.
Но теперь Эндерби не мог задремать. Мимо скользила сельская местность, сверкали далекие городки на высоких солнечных плато, оливы, виноград, кипарисы, виллы, темнеющие поля, бесконечное синее небо. А вдали явилось озеро, широкая белая скатерть вод в озерном воздухе, усмирявшем дневную жару, рядом маленькая гостиница. Гид, который насупился и молчал после вспышки Эндерби, наглого британского выговора, теперь встал и сказал:
— Мы пробудем тут два часа. Автобус останется на автобусной стоянке. — И приблизительно указал, эскизно пошевелив римскими пальцами, где именно. Нахмурился на Эндерби, двигаясь по проходу, сизощекой худой римской хмуростью, несмотря на обращенье последнего:
— Не обиделись, а? — Даже еще больше окаменел, когда Эндерби молвил: — Ма é vero che lei ha parlato un poco pontificamento[90].
— Пошли, — велела Веста.
Широкая серебряная вода дышала прохладой. Но, к свежему изумлению Эндерби, никто ей не спешил наслаждаться. Толпы, выйдя из автобусов, карабкались на холм к какому-то поместью, обнесенному стенами. Подъезжал автобус за автобусом, изрыгал невеселых серьезных людей; некоторые молились по четкам. Были тут резные африканцы, гогочущие китайцы, рыболовецкая артель финнов; жевавшие, выводя круги челюстями, американцы; французы, вздернувшие épaules[91]; редкие белокурые викинги со своими богинями, — все взбирались на холм.
— Мы, — сказала Веста, — тоже туда идем.
— А что, — осторожно спросил Эндерби, — там, на вершине холма?
— Пошли. — Веста взяла его за руку. — Проявите, пожалуйста, чуточку поэтического любопытства. Идите, и увидите.
Эндерби уже наполовину знал, что стоит на дороге к вершине холма, куда они теперь начали подниматься, увиливая от новых, с визгом подъезжавших автобусов, но испытывал страдания, ведомый мимо улыбчивых продавцов фруктов и священных картинок. В ужасе на мгновение замер при виде портрета размером с игральную карту, повторившегося более пятидесяти двух раз: сперва показалось, будто это мачеха, переодетая в святого, благословлявшего автора собственного портрета. Потом выяснилось, что не она.
Тяжело дышавшего Эндерби привели к массивным воротам и дальше во двор, уже переполненный, наэлектризованный. За ними с Вестой по-прежнему толпы целенаправленно двигались вверх. Ловушка, ловушка: отсюда не выбраться. Тут раздался священный рев, грандиозный, сотрясший холм, и усиленный голос очень быстро заговорил по-итальянски. Голос не принадлежал никому: открытые в экстазе рты пили воздух, черные глаза искали голос над высокими оштукатуренными темно-желтыми стенами, над открытыми в жару зимними ставнями, деревьями, небом. Радость заливала щетинистые физиономии от громких неразборчивых слов. Начались крики:
— Viva, viva, viva[92]! — и были подхвачены.
— Так, — сказал Эндерби Весте, — это он, да?
Она кивнула. И вот заволновались французы, навострив уши, радостно разинув рты, когда голос как бы объявил об отправлении фантастического воздушного рейса:
— Тулон, Марсель, Бордо, Авиньон.
— Bravo! — Крики удваивались в холмах, летели в небеса. — Bravo, bravo!
Эндерби был в ужасе, в ошеломлении.
— Что тут происходит? — крикнул он. Голос заговорил теперь по-американски, приветствуя контингент пилигримов из Иллинойса, Огайо, Нью-Джерси, Массачусетса, Делавэра. А Эндерби чувствовал, как все его горячее тело охватывают ледяные руки, видя ритмичные сигналы дирижера радостного хора, молодого человека в новом джерси с синей вывязанной буквой «П».
— Род-Айленд, — сказал голос, — Кентукки, Техас.
— Па-па-па, — грянул радостный хор. — Папа, папа, папа!
— О боже, нет, — простонал Эндерби. — Ради Христа, выпустите меня отсюда. — Попробовал протолкнуться, слабо извиняясь, но толпа сзади плотно стояла, подняв взоры горе; он наступил на ногу маленькой французской девочке, и та закричала.
— Харри, — резко окликнула Веста, — стойте на месте.
— Миссисипи, Калифорния, Оклахома. — Прямо какой-то святой Уолт Уитмен.
— Па-па-па! Папа, папа, папа!
— Ох, Иисусе, — всхлипывал Эндерби, — пожалуйста, пропустите, пожалуйста. Мне плохо, я болен, мне надо в уборную.
— Тут Воинствующая Церковь, — злобно сказала Веста, — а вам надо только в уборную.
— Да-да. — И Эндерби с полными слез глазами сцепился с вонючим испанцем, который не давал пройти. Французская девочка все кричала, тыча пальцем вверх на Эндерби. Вдруг раздалось что-то вроде призыва к молитве, все попа́дали на колени в дворовую пыль. Эндерби превратился в подобие взбешенного школьного учителя в море остановившихся в росте учеников. И она преклонила колени; Веста встала на колени; опустилась на колени вместе с остальными.
— Встать! — рявкнул Эндерби и по-сержантски добавил: — Встать с колен, черт возьми!
— На колени, — приказала она с сильнодействующим зеленым ядом в глазах. — На колени. Все на вас смотрят.
— О боже мой, — всхлипнул Эндерби, молясь против течения, и снова попытался выбраться, высоко задирая ноги, точно шел в патоке. Он шагал по коленям, по юбкам, даже по плечам, слыша кругом проклятия, даже от молившихся с устрашающей искренностью, с увлажненным молитвою взором. Спотыкаясь, сам сыпля проклятиями, неуклюже ступая гусиным шагом, накладывая епископскую руку на головы, прорезался сквозь огромный кекс коленопреклоненных и, почти в приступе тошноты, ослепший от пота, добрался до ворот к дороге на холме. Плетясь вниз по холму мимо улыбавшихся продавцов, бормотал про себя:
— Я поступил, как проклятый дурак, что поехал.
С вершины холма донеслось грандиозное «аминь».
— Сефил везде, — сказал мужчина. — Тоттем чтоспер. Карди-сети[93]. — У него была на удивление львиная физиономия, хоть и безволосая: несколько волнистых волокон проползали по голому в целом скальпу. Неотрывно глазея на Эндерби, точно уверенный в желании последнего подвергнуть его месмеризму, и чересчур вежливый, чтобы (а) возразить против этого, (б) объявить месмеризм недействительным, он то и дело смелым жестом подносил к губам окурок сигареты и затягивался с отчаянным стоном, словно это был единственный источник кислорода, а он умирал.
— Tutti buoni[94], — кивнул Эндерби над вином. — Весь футбол очень хороший.
Мужчина схватил Эндерби за левую руку, изобразив безжалостную ухмылку глубокого-глубокого кровно-братского понимания. Сидели они за грубыми столами-козлами на открытом воздухе. Тут фраскати дошло до последнего издыхания дешевизны — золотые галлоны за несколько кусочков звонкой меди.
— Весь Бромик, — продолжил мужчина литанию. — Мантестер лунайтик. Револьвертампон вандер эр[95]. — Эндерби это стало надоедать, хоть и больше ободряло, чем географический манифест на холме. Он смутно прикинул, не так ли звучал этрусский язык. Выше по центральной дороге за темными и безымянными деревьями шла стена этой таверны под небесной крышей, слышалось, как к автобусам возвращаются пилигримы, шагают медленно, с достоинством, после того как потешно скатились с холма. Если у Весты вообще есть хоть сколько-нибудь ума, догадается, где его искать. Не то чтобы в нынешнем настроении Эндерби особенно волновало, найдет, или нет. Рядом с мужчиной с львиной мордой и футбольной литанией развалился патриот, не веривший, что Муссолини действительно мертв: он, как король Артур, восстанет с обнаженным мечом и отомстит за новые нанесенные стране обиды. Патриот объявил англичан друзьями Муссолини; итальянцы с британцами вместе сражались, изгоняя поганых германцев. Часто склонял к Эндерби одну щеку, поднимал большой палец, как император на играх, подмигивал заговорщицки. На периферии выпивали другие: одни с неюжными зубами; у кого-то на плече сидел дурной попугай, частично пропищавший арию Беллини. Была еще очень здоровая девушка по имени Биче, разносила по кругу вино. Недостатка в компании у Эндерби не было. Хорошо бы только, итальянцы были чуть получше. Но он скормил певцу литании «Блэкберн Роверс» и «Ньюкасл Юнайтед», патриоту — «Аддис-Абебу» и «девчонку с Золотого Запада». Тем временем на другой стороне озера с крайней мягкостью грянул гром.
— Гарибальди, — изрек Эндерби. — Да здравствует итальянская Африка!
Когда явилась в конце концов Веста, славный пивной двор сразу дезинфицировался, обернувшись фоном для демонстрации мод из «Вога». Вид у нее был усталый, но она полностью сохраняла спокойствие и элегантную трепетность, отчего даже грубейшие пьяницы подумывали снять кепки. Некоторые, припомнив, что они итальянцы, услужливо проговорили:
— Molto bella[96], — и сделали в воздухе жесты, будто кур щипали.
Она обратилась к Эндерби без преамбулы:
— Так я и знала, найду вас в каком-нибудь таком местечке. Сыта по горло. Меня тошнит до смерти. Видно, вы изо всех сил стараетесь превратить наш медовый месяц в фарс, а меня выставить дурой.
— Садитесь, — предложил Эндерби. — Садитесь, пожалуйста. Выпейте вот этого замечательного фраскати. — Кивком указал на сухую и довольно чистую часть скамьи, где сидел. Литанист догадался, что она inglese, соответственно перенес на нее страсть к футболу и некстати сказал:
— Бардак, — имея в виду «Спартак».
Веста садиться не стала.
— Нет, — сказала она. — Вы со мной пойдете автобус искать. То, что я хочу сказать, обождет до возвращения в Рим. Не желаю рисковать публичным скандалом.
— Мир, — передразнил ее Эндерби. — Мир и порядок. Вы надо мной сыграли очень злую шутку, и я ее в спешке не позабыл. Поистине гадкая шутка.
— Пошли. Некоторые автобусы уже уехали. Оставьте вино и пойдем.
Эндерби увидел, что остается еще поллитра золотой драгоценной мочи. Наполнил стакан и сказал:
— Salute. — Проглотил возбужденные крики «bravo», полные энтузиазма, подобно услышанным на священном холме, хоть тогда не в свой адрес. — Хорошо, — сказал он, помахав на прощанье.
— Мы опаздываем, — предупредила Веста. — Опаздываем на автобус. Не опоздали бы, если б я не пошла вас искать.
— Шутка злая была, — повторил Эндерби. — Почему вы мне не сказали, что нас везут в Ватикан?
— Ох, не будьте таким идиотом. Это не Ватикан, а летняя резиденция. Где же наш автобус, скажите на милость?
Число автобусов было ошеломляющим, все одинаковые. В них уютно и самодовольно гнездились пилигримы; некоторые с нетерпеливым ревом уносились прочь. Автобусы стояли повсюду — у обочины, на холмистых улочках, — точно большие жуки в щели. Веста с Эндерби принялись быстро, но внимательно, будто покупать собирались, осматривать автобусы, пассажиров и прочее. Ничего знакомого вроде бы не обнаружили, и Веста начала издавать огорченные звуки. Прислушавшемуся сквозь плотную завесу вина Эндерби показалось, что он слушает общепринятый английский, с которого грубо ободрана облицовка и инкрустация, в результате чего звучит лалланс[97], пряный, как маринованный домашний лук, с горловыми и гортанными перебивками. Она в самом деле встревожилась. Эндерби сказал:
— Черт с ним, бросят нас — особого вреда не будет. Тут должны быть автобусы, поезда, такси или что еще там. Не в джунглях же мы заблудились или где еще там.
— Вы обидели гида, — упрекнула Веста. — А еще богохульничали. Знаете, эти люди к религии очень серьезно относятся.
— Чепуха, — сказал Эндерби. Небо над их ищущими головами украдкой заволоклось тучами. Атмосфера стала зеленоватой, словно раньше или позже намеревалась стошнить. За озером снова мягко забарабанила тревога, как бы кончиками пальцев в тимпан.
— Дождь собирается, — взвыла Веста. — Ох, захватит нас. Вымокнем. — Однако непроницаемый от вина Эндерби велел не волноваться: сядут они в тот самый проклятый автобус.
Но они в него не сели. Как только подошли, автобус игриво тронулся, мотором прорычав Эндерби презрительный эксплетив. Сверху вниз смотрели лица, пилигримы ухмылялись, махнуло несколько рук. Веста с Эндерби смахивали на хозяев, провожающих после размашистой вечеринки кучу довольно неблагодарных гостей.
— Он это нарочно сделал, — крикнула Веста. — Отомстил. Ох, сколько от вас неприятностей. — Поспешили к другому автобусу, и тот, как играющий в догонялки котенок, мигом пришел в движение. Осталось уже совсем мало, хотя Эндерби испытывал уверенность, что в одном из немногих оставшихся маячит римская физиономия, неблагородная физиономия римского гида, и римские пальцы делают сложные злобные триумфальные жесты.
Тимпанщики за озером, схватив чуткие палочки, пророкотали несколько тактов, пока автобусы, как бы спасаясь от плохой погоды, с песней мчались к городу. Озеро претерпевало сложные металлургические преобразования, небо, окутываясь жарким и устрашающим светом, начинало потеть, потом плакать.
— Ох, Иисусе, — крикнула Веста, — начинается. — И действительно, началось, когда до другого укрытия, кроме деревьев, оставалось полмили: небо треснуло бочкой дождевой воды, воздух стал опрокинутым вертикально стаканом, откуда лилась бадья за бадьей. Они слепо мчались к гостиничке на берегу озера, Веста топала ловкими шпильками, Эндерби крепко держал ее за локоть, как школьный циркуль; оба уже слишком вымокли, чтобы так торопиться в убежище. Голова Эндерби ощетинилась перхотью от потопа, желтовато-коричневый летний костюм промок. Но она, бедная девочка, совсем погибла: шляпа комично болтается, крысиные хвосты волос, тушь течет, лицо плачущей старой карги словно оплакивало дезинтеграцию шика.
— Сюда, — выдохнул Эндерби, втащив ее прямо в зал, где пахло простором и свежей краской, с пустыми столами и стульями, с прилизанным официантом, который любовался свободным потоком дождя. — Думаю, — пыхтел Эндерби, — надо взять номер, если они у них есть. Первым делом просохнуть. Может, у них… — Официант выкрикнул чье-то имя, потом повернул молодое пустое лицо к двум промокшим. — Una camera, — сказал Эндерби. — Si é possible[98]. — Парень вновь крикнул мальчишеским несломавшимся криком под барабанную дробь воды. Пришла женщина, сливочно жирная, в цветастом платье, сочувственно цыкнула, бросила быстрый взгляд на безымянный палец Весты, сообщила, что имеется camera с одной letto[99]. Несмотря на грандиозную улыбку, Веста смахивала на сопливую бродяжку. — Grazie, — сказал Эндерби. На запоздалом небе мигом треснула молния, тимпанщики отсчитали полтакта и вступили с прекрасным раскатом, с грохочущими аккордами космического Берлиоза. Дрожавшая Веста перекрестилась.
— Зачем, — спросил Эндерби, — вы это сделали?
— Ох, Боже, — призналась она, — я боюсь. Грома не выношу. — Желудок у Эндерби перевернулся при этих словах.
Наверху в спальне они предстали друг перед другом голыми. Эндерби почему-то не ожидал, что они предстанут друг перед другом голыми, когда скинут мокрую одежду, кучей выбросив ее за дверь. Предполагалось, что они предстанут голыми друг перед другом как-нибудь иначе: сознательно, по желанию или из чувства долга. Он старался переварить столько других вещей, что никак не мог предвидеть эту преждевременную картину (а там, на холме, очень чисто вписалось в картину великое послевременное свидетельство), ибо комната в высшей степени походила на детскую Эндерби: изображения святого Иоанна Крестителя, Святого Сердца, БДМ[100], мелодраматической Голгофы; запах нечистого постельного белья, пыли, обуви, застоявшейся святой воды; невыбитый волокнистый ковер, узкая койка. Воспроизведение здесь, в Италии, под дождем, основных декораций стольких подростковых монодрам не удручало его: эта спальня всегда оставалась мятежным анклавом в мачехиной стране. С полной четкостью вспомнились строки неопубликованного стиха:
…Бывало, ты, превратно понятый родней,
В пятнадцать, летом, вечером в постели
Верил в существованье древних городов, где побывал,
Отправившись с какой-нибудь заброшенной платформы,
С билетом, купленным при заболтавшихся часах.
О, прошлое кому удастся расчленить?
Ложится мальчик в дружелюбную постель
На мать непознанную, входит в лоно
Истории, овладевает ею, наконец. Наверно, слезы
Все так же жаждут той вонючей и нестираной подушки,
Замаранной всей грязью прошлого постели,
Со вшами, дрянью, глупостью и бредом Золотого Века,
Но любящего, материнского, в конце концов, Эдема…
Он несколько раз кивнул, стоя голым в дождливой Италии, думая, что всегда хотел иметь мать, а не мачеху, сам сотворил эту мать в своей спальне, создал ее из прошлого, из истории, мифа, искусства поэзии. Когда она возникла, то стала стройнее, моложе, больше похожая на любовницу; она стала Музой.
Молния вновь сотрясла твердь, потом, тщательно отсчитав, хохотавшие барабанщики адски грянули в звучные мембраны. Веста коротко взвизгнула, обхватила тело Эндерби и как бы попыталась в него втиснуться, будто он был ободранным кроликом большого размера, а она — горстью трясущейся фаршировки.
— Ну-ну, — сказал Эндерби, вежливо, но взволнованно: у нее нету права вносить в эту детскую спальню мачехины кошмары. Вдруг вспотел, прозревая тут больше простой боязни грома. Но все равно прижимал ее, гладил лопатки, думая, что по сути в несоблазнительной сердцевине такого голого контакта лежит сердечность: шлепок ладонью по попке; желейный звук двух влажных сегментов разъединившейся плоти. Она дрожала: воздух существенно охладился.
— Лучше бы вам, — сказал Эндерби, — лечь в постель.
— Да, — содрогнулась она, — да. В постель. — И потянула его к кровати, не ослабляя хватки, поэтому они проковыляли к ней в неуклюжем танце. Как только оказались в постели, на небе на мгновение вырисовался моток молнии, словно ошеломленный мужчина на фоне утеса, потом по всему небу грохнули барабаны через высокотехнологичные усилители. От страха она вновь попробовала в него втиснуться, в довольно мягкую вековую скалу; он чуял ее страх, знакомый, как чуть маслянистый запах одеяла.
— Ну, — опять сказал Эндерби, обнимая ее и поглаживая, успокаивая. Кровать была очень узкая. Это, непрерывно напоминал он себе, его жена, умная и желанная молодая женщина, пора под гром и дождь подумать о совершении, так сказать, о завершении, так сказать. Украдкой протянул руку вниз, чтобы выяснить мнение своего тела о таком заявлении, но там все было тихо, как если бы он спокойно читал Джейн Остин.
Дождь стихал, гром, раскатываясь и ворча, удалялся. Эндерби чувствовал, что ее тело расслабилось, стало как-то увлажняться, полниться ожиданием. Она все еще прижималась к нему, хотя грома нечего было больше бояться. Заржавевшие и медлительные механизмы Эндерби старались пробудиться и отреагировать на разнообразные, абсолютно не оригинальные стимулы желез, но существовали определенные трудности, тайные и постыдные. Эндерби сбивало с толку огромное число картин: давно он вот так не держал в объятиях женщину, но мысленно держал столько гурий одну за другой, одна другой красивей, пассивнее, сладострастнее, ни одна реальная женщина никогда даже близко не подойдет. Возможно, казалось ему теперь, если б сейчас тело в его руках стало — просто на двадцать-тридцать секунд — одним из тех гаремных мечтаний, откормленным, пухлым, умащенным, благоуханным, он наверняка смог бы выполнить свой прямой долг, оставляя в стороне все вопросы полученного удовольствия. Но тело его жены было худощавым и вовсе не пухлым. Эндерби отчаянным усилием вызвал жирный образ с отвисшими сиськами, понял, чей он, и с отрыжкой изображающего отвращенье ребенка с излишней поспешностью спрыгнул с кровати, встал, дрожа, на потертом половике.
— В чем дело? — спросила она. — Что такое? Плохо себя чувствуете?
Забыв о своей наготе, Эндерби, не ответив, метнулся из комнаты. Через две двери по коридору было написано «Gabinetto»[101], и он, снова переживая прошлое, вошел, запер дверь за собой. И в ужасе обнаружил, что уборная представляет собой не английский здоровый и комфортабельный ватерклозет, а континентальную дырку с поручнем по правую руку, с приделанным с той же стороны рулоном туалетной бумаги. Однажды, много лет назад, он в одну такую дырку упал. Теперь чуть не заплакал по старой приморской уборной, но, когда открыл дверь, чтобы выйти, слезы замерли при послышавшихся в коридоре итальянских женских голосах. Один, бросив мимоходом другому громкие приветствия, звучал теперь прямо у двери и дергал за ручку. Эндерби быстро заперся. Голос заговорил настойчиво, сообщив, насколько Эндерби понял, что его обладательнице отчаянно нехорошо, она не в состоянии ждать слишком долго. Он уселся на краешек низкого седалища с дырками, повторяя:
— Уйдите, уйдите, — и, как бы спохватившись: — Io sono nudo, completamente nudo[102], — гадая, правильно ли выражается по-итальянски. Правильно или нет, голос умолк, видно, проследовав дальше по коридору. Совсем голый Эндерби устроился в позе мыслителя, чувствуя себя хуже некуда.
Подобно арабскому вору, хоть и не столь увертливому, Эндерби пулей рванул назад в спальню. Веста сидела в постели, курила с мундштуком дешевую (или экспортную) сигарету, отчего выглядела голее, чем на самом деле, хоть это и, рассуждал Эндерби, невозможно.
— Ну что, — сказала она. — Собираемся мы разобраться со всем этим делом?
— Нет, — буркнул Эндерби. — Только не так. — Сел в углу с пристыженной физиономией на плетеный стул, ерзая, морщась на впившиеся в зад острые щепки. — Только, — сказал он, — не вообще без одежды. Это нехорошо. — Молитвенно сложил ладони, спрятав от курившей в постели женщины свои гениталии в предательскую клетку пальцев. — Я хочу сказать, — сказал он, — голым фактически ни о чем нельзя разговаривать.
— Кому вы это рассказываете? — с жаром встрепенулась она. — Что вам известно о мире? Я со своим первым мужем в лагере нудистов однажды была (Эндерби хмыкнул на неожиданную официальность «первого мужа».) где обычно бывали действительно выдающиеся мужчины и женщины, которые не испытывали никакого pudeur[103] насчет разговоров. И добавлю, — едко добавила она, — говорили не только на тему уборных, желудков и предполагаемой гнилости Римской империи.
Эндерби мрачно глядел в окно, видя, что дождь прекратился, июньское тепло, получив поощрение, ползком возвращается в итальянский вечер. Потом ему был дарован краткий образ жирной женщины-нудистки средних лет с отвисшим животом, с болтавшейся, как кишки, грудью, рассуждающей об эстетических ценностях. Это немного развеселило его, и он храбро обратился к Весте:
— Ну ладно. Давайте покончим со всем этим чертовым делом. Какую игру вы ведете, что скажете?
— Я вас не понимаю, — сказала она. — Не играю ни в какие игры. Просто сильно старалась, без всякой вашей помощи, брак построить.
— И ваша идея строительства брака сводилась к попытке втащить меня обратно в церковь? — уточнил Эндерби, жестикулируя одной рукой и при этом наполовину открыв гениталии. — Причем жутко трусливым способом. Ничего про свое католичество не сказали, вполне согласились на регистрацию, зная даже, что такой брак вообще ничего не значит.
— Ох, — подхватила она, — вы это признаете, да? Признаете ничего не значащим? Иными словами, признаете единственно стоящим католический брак?
— Ничего я не признаю, — крикнул Эндерби. — Говорю лишь, что совсем запутался, полностью, в происходящем. Я хочу сказать, мы женаты всего пару дней, а кажется, будто все изменилось. Вы же не такая, как раньше. Вы такой не были, когда мы жили в Лондоне в вашей квартире, правда? Тогда все было хорошо. Вы стояли на моей стороне, делали свое дело, работали, я — свое, все было приятно и мило, плевать на весь мир. А теперь посмотрите. Сразу после женитьбы, а минула всего пара дней, всего пара дней, не забудьте (взметнулись два пальца, пять остались на гениталиях), вы, черт возьми, изо всех сил стараетесь стать моей мачехой.
Рот Весты открылся и выпустил дым.
— Чем, говорите? Чем стать?
— Моей мачехой, сукой. Пока еще не разжирели, но, по-моему, скоро это случится. Бесконечно рыгаете, произносите «ох» и на меня кидаетесь, — ноете и ворчите, ворчите и ноете, — и проклятого грома боитесь, и хотите вернуть меня в церковь. Зачем? Вот что хотелось бы знать. Для чего? Из каких побуждений? К чему вы ведете? Что пытаетесь сделать?
— Все это, — веско объявила она, — фантазии. Самое невероятное… самое невероятное и фантастическое… — И начала вылезать из постели.
Завидев это, Эндерби сообразил, что в комнате на виду окажется слишком много наготы, с болтавшимися гениталиями сорвался с плетеного стула, толкнул ее обратно в кровать и накрыл одеялом. После чего сказал:
— Ни к чему нам такая фривольность, если не возражаете, ни к чему такая чепуха. До женитьбы, — послушайте, что я вам говорю, — до женитьбы вы были моей мечтой с детских лет. Были всем, чем она не была, освобождением, выходом. Были тем, что убило б ее навсегда, и с концом. А теперь на себя посмотрите. — И сурово ткнул пальцем. Она, словно он был только что ворвавшимся незнакомцем, с испуганным видом натянула на грудь серую простыню. — Хотите снова меня затащить в тот самый старый мир? Назад в распроклятую церковь, сплошь в женские запахи…
— Вы пьяны, — сказала она. — Вы с ума сошли. — Раздался стук в дверь, Эндерби, жестикулируя, пошел открывать, нося теперь свою наготу бессознательно, как костюм.
— Пьян? — переспросил он. — Из-за вас пьян, вот именно. — Открыл дверь; хозяйка гостиницы протягивала стопку высушенной выглаженной одежды. — Tante grazie, — сказал он, потом, повернувшись к жене, продемонстрировал хозяйке зад; она хлопнула дверью и удалилась, громко рассуждая по-итальянски. — Все, — сказал Эндерби, — уже, — свалив одежду на кровать, — пошло не так, как я ожидал. Это была большая, черт возьми, ошибка, вот что это было.
Веста потянулась к одежде, сердито и нервно дрожа, и сказала:
— Ошибка, говорите? Вот это, я скажу, благодарность, вот это признательность. — Сделала паузу, положив одну руку на платье, глубоко дыша, будто ей спину прослушивали со стетоскопом, опустив глаза, стараясь взять себя в руки. Потом спокойно продолжила: — Заметьте, я стараюсь не злиться. Должен же кто-то разумно вести себя. — Эндерби принялся исполнять некий прыгучий танец, надевая трусы. — Послушайте меня, — предложила она, — послушайте. Вы знаете о жизни не больше ребенка. При первой нашей встрече мне показалось ужасным, что столь талантливый человек так живет. Нет, дайте сказать, не выводите меня из себя. — Эндерби что-то пробормотал из рубашки. — С женщинами никаких дел не имели, — продолжала она, — и ни во что не верили, и не чувствовали своей ответственности перед обществом. О, знаю, всему этому была замена, — едко намекнула она. — Грязные фотографии вместо плоти и крови. — Эндерби повторял прыгучий танец, на сей раз с брюками, хмурясь и краснея. — Общество, — громко, красноречиво сказала она, — для вас съежилось в самое малое помещенье в квартире. Разве это жизнь для мужчины? — строго спросила она. — Разве это жизнь для поэта? Разве так вы надеялись создать великую поэзию?
— Поэзию, — повторил Эндерби. — Не говорите мне о поэзии. Я все о поэзии знаю, большое спасибо, — всхрапнул он, как бык. — Но позвольте мне вот что сказать. Никто не обязан принимать общество, женщину, или религию, или еще что-нибудь, никто. Что касается поэзии, она для анархистов. Поэзию делают бунтари, изгнанники, аутсайдеры, творят ее по своей воле, без всякого там овечьего блеяния «браво» папе. Поэтам не нужна религия, равно как не требуются, черт возьми, сплетни в компании за коктейлем; это они рождают язык и мифы. Поэты ни в чем не нуждаются, кроме самих себя.
Веста схватила бюстгальтер, устало в него погрузилась, как в какой-нибудь обязательный причиндал епитимьи.
— Казалось, — заметила она, — вы любите бывать в компаниях. — Казалось, — продолжала она, — вам нравится носить приличный костюм, беседовать с людьми. Это цивилизованность, вы говорили. Как-то вечером, может быть, позабыли, прочитали мне длинную скучную лекцию о Поэте и Обществе. Даже позаботились поблагодарить меня за спасение от прежней жизни. Когда-нибудь, — вздохнула она, — всем станет полностью ясно, чего вы хотите.
— О, — признал Эндерби, — по-моему, это все хорошо. Приятная перемена. Знаете, приятно быть чистым, опрятным и слышать культурное произношение. Понимаете, по сравнению с моей мачехой совсем другое дело. — Теперь он, полностью одетый, с огромной уверенностью сидел в углу на стуле с плетеным сиденьем. — Но, — сказал он, — если общество означает возврат в церковь, не желаю иметь с обществом ничего общего. Для меня церковь полностью связана с той самой сукой, злой, суеверной, нечистой.
— О, какой вы глупец, — сказала Веста, быстро, ловко надевая платье. — Какой необразованный. Кое-кто из лучших умов — поэты, романисты, философы — принадлежат к церкви. Если какая-нибудь неграмотная и глупая женщина свела ее к ерунде, это вовсе не означает, что она и есть ерунда. Вы дурак, но, разумеется, не до такой степени. В любом случае, — сказала она, со щелчком открыв сумочку, шаря в поисках расчески, — никто вас не просит возвращаться в церковь. Церковь, наверно, отлично без вас обойдется. Но раз я возвращаюсь, вы должны, как минимум, проявить любезность, порядочность и формально вернуться со мной.
— Вы хотите сказать, — уточнил Эндерби, — что нам надо жениться по правилам? Со священником в церкви? Слушайте, — сказал он, скрестив руки, положив ногу на ногу, — почему вы раньше не подумали? Зачем ждать медового месяца, чтобы принять решение вернуться в блеющее стадо? Не отвечайте, я знаю ответ. Потому что вам хочется стать известной потомкам как женщина, которая изменила жизнь, веру и творчество Эндерби. Роуклифф так и сказал, а я раньше об этом не думал, потому что действительно верил в какое-то ваше чувство ко мне, но теперь, трезвей глядя, вижу, это невозможно, ведь я безобразен, нахожусь в среднем возрасте и, как вы мило заметили, глуп. Ну и ладно; теперь положенье вещей нам известно.
Веста расчесывала волосы, скрежеща зубами, когда натыкалась на колтуны, и они, потрескивая, опять засияли, как пенни, вместо тусклых крысиных хвостов.
— Глупы, глупы, — подтвердила она. — Я рассчитывала, что наш брак состоится. И может еще состояться. Конечно, если вы считаете, будто Роуклифф больше меня заслуживает доверия (не забудьте, он до чертиков вам завидует), что ж, это ваше личное дело, можете на том успокоиться. Фактически, как бы вы ни были глупы, я очень к вам привязана и в то же время чувствую себя способной сделать вас счастливым, сделав более нормальным, более здравомыслящим.
— Вот видите, — триумфально заключил Эндерби.
— О, чепуха. Вот что я имею в виду: художнику нужно место в мире, он должен исполнять какие-то обязанности, соприкасаться с течением жизни. Несомненно, проблема всего вашего творчества в том, что оно как бы отрезано от потока.
— Очень интересно, — сказал Эндерби, все так же со скрещенными руками. — Очень, очень замечательно.
— Ox, — сказала она и ссутулилась, будто вдруг сильно устала. — Какое это имеет значение? Кого интересует, пишете вы великие стихи или нет? Ничтожнейшего тинейджера поп-певца в миллион раз больше почитают, чем вас. Вы продаете лишь стопочку экземпляров каждой написанной книги. Будет ядерная война, и библиотеки погибнут. Что толку? Что вообще хорошего может быть, когда в Бога не веришь? — Села на кровать, совсем упав духом, и тихо заплакала.
Эндерби тихонько подошел и сказал:
— Простите. Мне страшно жаль. Но, по-моему, я слишком стар, чтоб учиться, слишком стар, чтоб меняться. Может, лучше признаем все это ошибкой и вернемся к прежнему положенью вещей. Никто никому фактического вреда пока не причинил, правда? Я хочу сказать, мы ведь даже не поженились по-настоящему, правда?
Она сурово подняла глаза и сказала:
— Вы как ребенок. Ребенок, которому не понравилось первое утро в школе и он поэтому не собирается днем туда возвращаться. — Вытерла глаза и опять стала сильной, уверенной в себе. — Никто меня дурой не выставит, — заявила она. — Никто меня не бросит.
— Сами можете аннулировать брак, — предложил Эндерби. — На основании неисполнения супружеских обязанностей. Потому что, знаете, они исполняться никогда не будут.
— Собираетесь, — сказала Веста, — вернуться к жизни на крошечный, но адекватный доход, писать стихи в уборной? Не выйдет. Все крохи вашего оставшегося капитала получу я. Уж будьте уверены. И все ваши приобретения сделаны на мое имя. Никто меня дурой не выставит.
— Я могу работу найти, — сказал Эндерби, начиная злиться. — Я ни от кого не завишу. Могу жить независимо. — И почувствовал подступавшие слезы жалости к себе. — Поэту, — всхлипнул он, — лучше жить самому по себе. — Он видел сквозь слезы размытых Дантовых орлов, круживших у простреленных молниями пиков. — Поэту, — пробормотал он вроде семилетнего жениха елизаветинской эпохи, который с плачем просится с отцом домой.
— Главная моя цель, — сказал шатавшийся Роуклифф, — вручить вам вот… — Он, шатаясь, пошарил в разнообразных карманах, вытаскивая старые грязные, сгнившие на складках бумажки, два полупустых, пушистых от пыли тюбика с желудочными таблетками, судейский свисток, засохшую погремушку шариковой ручки и, наконец, довольно чистый конверт, — это. Билеты на премьеру. Думаю, милый мой старина Эндерби, в разумной мере развлечетесь. Я упомянутым фильмом больше не интересуюсь, будучи столь тесно связанным. Позвольте доложить, Эндерби, фильм дешевый, фильм снят на гроши, фильм снят очень быстро, кусочки заимствованы — практически, знаете, без разрешения — из других фильмов. «Стрега», — неожиданно бросил он Данте за стойкой бара. Бар, как при первой их встрече, был пуст, кроме них. Эндерби себя чувствовал изможденным и старым, со вкусом тонизирующего шоколада во рту, обсыпанного толченой корой жостера. Стояла середина утра через день после их возвращения из папского поместья у озера; Веста отправилась к женщине, которую звали княгиня Ирина Голицына, к римской даме, известной модными бутиками или моделями высокой моды, или еще чем-то. Веста быстро тратила деньги. — И, — рассказывал Роуклифф, — естественно, то, чего мир от Италии только и ждет: некоторое количество sfacciate donne Florentine, они, правда, не флорентийки, а римлянки, mastrando con le рорре il petto[104]. To бишь, понимаете, Эндерби, сучки бесстыжие грудь демонстрируют. Данте был великим пророком, итальянскую киноиндустрию предсказал. Данте.
Данте поклонился за стойкой бара.
— Тезка, — конфиденциально сообщил он Эндерби.
— Чертовски замечательное совпадение, а? — пошатнулся Роуклифф. — Все найдете у Данте, Эндерби, если как следует поискать. Даже название фильма, который пойдете смотреть, заимствовано из Purgatorio[105]. Я нашел его, Эндерби, я, английский поэт, ибо никто из этих нечестивых римлян никогда даже не заглянул в Данте после окончания школы, если кто-нибудь вообще ходил в школу.
Эндерби вытащил пригласительный билет из конверта и увидел, что фильм называется «L’Animal Binato»[106]. Название ничего ему не говорило. Он вернулся к бутылке фраскати на стойке, налил себе стаканчик. — Я смотрю, крепко пьете, Эндерби, — заметил Роуклифф. — И это потому, если позволите высказать непристойную догадку, что пускаете в ход мышцы, которые никогда раньше в ход не пускали. Венера стынет без Бахуса и Цереры, хотя, по-моему, эту богиню можно оставить без завтрака. «Стрега», — снова приказал он энергичным кивком.
— Слушайте, — предупредил Эндерби, — я вас домой больше не повезу. В прошлый раз, Роуклифф, вы доставили кучу хлопот, черт возьми, а меня выставили истинным дураком. Если намерены тут отключиться, тут и останетесь отключившимся, ясно? У меня своих забот полон рот, чтоб дела принимали такой оборот.
— Прямо в рифму сказал, — преувеличенно изумился Роуклифф. — До сих пор во многом поэт, да? Только долго ли еще им останетесь, а? — зловеще прищурившись, полюбопытствовал он. — Муза, о Эндерби. Являлась ли вам уже Муза, объявляла ли о заказанном себе билете в один конец на рейс до Парнаса, или где там обитают музы? Долго она пахала на Эндерби, пришла пора Эндерби проститься с примитивной магией и расстаться с ней. Муза, в отличие от Ариэля[107], не воздушный дух непонятного пола, а женщина, в высшей степени женщина. — Тут Роуклифф сморщился, стал очень старым. — Может быть, Эндерби, мне просто не суждено было добиться большого успеха с этой конкретной женщиной по причине, — вам известна причина, — по причине определенного, так сказать, неопределенного отношения к сексу. — Он вдохнул около литра воздуха римского бара. Выпил около сантилитра «Стреги». — Теперь я, Эндерби, знаете, вновь на колесах. С нынешнего дня, если точно сказать. Поэтому, знаете, вам не придется везти меня домой или еще куда-то. За мной из БЕА[108] придут, заберут, отличные ребята. На самолет посадят. Куда я лечу, Эндерби? — Он проказливо ухмыльнулся, грозя пальцем. — Ах, я вам не скажу. Скажу только: далее к югу. Пакетик прихватил. — И, подмигивая, стукнул в правую грудь своего пиджака. — Пусть теперь малыши Марко, Марио, и проклятый пьемонтец, цитируя Мильтона, самостоятельно забавляются. Я со всем с этим покончил, Эндерби. Со всем, — громко объявил он, подчеркивая кулаками по стойке, — покончил, Эндерби. Вы, я хочу сказать, как говорится, свою голову на плечах имейте. Опомнитесь. Поэт должен оставаться один.
Эндерби, надув губы, вылил себе остаток бутылки. По его мнению, Роуклифф ему не вправе советовать жить одному. Вытащил из внутреннего пиджачного кармана клочок бумаги с записями расходов.
— Знаете, — сказал он, — сколько норка стоит? Норка, — повторил он. — Вот тут у меня записано, — щепетильно сказал он. — Одна норковая шуба «Блэк Даймонд»: тысяча четыреста девяносто пять фунтов. Одна накидка длиной до бедер: пятьсот девяносто пять фунтов. Одно пастельное норковое болеро: триста девяносто пять фунтов. Мы сбрасываем со счетов, — предупредил он, — как слишком несущественный для серьезного учета, пастельный палантин за двести фунтов. Мишура, чистые пустяки. — И глупо улыбнулся. — Что, — спросил он, — поэту с деньгами делать, а? Как жить поэту?
— Ну, — сказал Роуклифф, обеими руками схватив новую «Стрегу», словно надо было ее удушить, — знаете, существует работа. Всякая. Только самые удачливые поэты способны быть поэтами-профессионалами. Можно преподавать, писать в газеты, писать титры к фильмам, рекламные плакаты, лекции для Британского Совета или взяться за неквалифицированную работу на фабрике. Многим можно заняться.
— Но, — возразил Эндерби, — допустим, человек ни к чему не пригоден, кроме писанья стихов? Допустим, во всем остальном он дурак распроклятый?
— О, — рассудительно молвил Роуклифф, — по-моему, вряд ли кто-то бывает таким дураком распроклятым, чтоб это действительно имело значение. Ну, я бы на вашем месте отдал все в руки тетушки Весты. Она вас обиходит легко и мило.
— Но, — возразил Эндерби, — вы только минуту назад говорили, чтоб я оставался один.
— Правда, — признал Роуклифф, глядя в «Стрегу». — Ну, тогда все немножечко осложняется, правда, Эндерби? Однако не тревожьте меня своими тревогами, Эндерби, у меня, знаете, своих хватает. Сами разбирайтесь. — Он показался вдруг трезвым, довольно холодным, несмотря на июньский жар. Выпил «Стрегу», преувеличенно содрогнулся, будто принял целебное, но горькое лекарство. — Может быть, — сказал он, — надо было б мне раньше начать покрепче выпивать. Может, я уже умер бы, вместо того чтоб стать мнимым отцом, приемным отцом или пособником незаконного производства на свет «L’Animal Binato», живым, здоровым, почти невосприимчивым к смертоносным эффектам алкоголя. По правде сказать, Эндерби, я решился считать себя конченым, обнаружив исчезновение лирического дара. Можно было б хоть улицы невнимательно переходить, да? Или вместо пропагандистской работы во время войны отправиться добровольцем к более естественной смерти.
— Что, — угрюмо спросил Эндерби, — при этом чувствуешь? Я имею в виду, когда лирический дар исчезает?
Роуклифф взглянул так мрачно, уставился на Эндерби одним настолько желчным глазом, что тот нервно заулыбался.
— Разрази бог, — сказал Роуклифф, — вашу злобную душонку, нечего тут смеяться, даже в ретроспективе. — Потом придвинулся ближе к Эндерби, показав крупным планом нехорошие зубы и дыхнув еще хуже. — Чувствуешь, будто все умирает, — сообщил он. — Будто ты онемел и оглох. Я вполне ясно вижу, что надо сказать, а сказать не могу. Понимаю существование воображаемой взаимосвязи между несопоставимыми объектами, и не могу описать эту связь. Я все так же часами сидел за бумагой, часами, Эндерби, часами, в конце концов чего-то писал. Но то, что писал, — не смейтесь надо мной, — пахло гнилью. Я писал чертовщину, всегда содрогался, когда комкал и швырял в огонь. Потом ночью в постели всегда просыпался и слышал насмешливый хохот. А потом, — захлебывался Роуклифф, — как-то ночью грянуло жуткое щелк, и в спальне все стало каким-то холодным, холодным и непотребным. Я знал, Эндерби, все кончено. С той минуты я изгнан из Сада, никому не нужен, мешаю, больше того, Эндерби, каким-то непонятным образом творю зло. Как расстриженный священник, Эндерби. Расстрига-священник не превращается просто в нейтральное и безвредное человеческое существо, он становится злодеем. Его что-то должно использовать, ибо сверхприрода не терпит сверхпустоты, поэтому он будет злодеем, Эндерби. — Роуклифф выпил еще «Стреги», зашатался, словно натыкался на веревки, и заключил: — Все, что остается поэту, Эндерби, когда уйдет вдохновение, Эндерби, это пародия, плагиат, популяризация, дешевка, брань. Он выпил райского молока, но оно давно вышло из организма, Эндерби, хотя вкус, к сожалению, помнится. — Закрыл усталые глаза, процитировал: — Ara vos prec[109], — и дальше: — не забывать, как тягостно ему. Перевожу, Эндерби, ибо вы не поймете оригинального провансальского. Поэт Ариальд Даньель в «Чистилище»[110]. Повезло подлецу, или, Эндерби, везет подлецу оказаться в чистилище. В отличие от некоторых из нас. — И вполне легко заснул стоя, положив голову на сложенные на стойке бара руки.
— Пускай лучше поспит, — посоветовал Данте. И вместе с Эндерби отнес, отвел, протолкал, проволок Роуклиффа к сливовому плюшевому дивану у стены. — Чличком много долбаной «Стреги», — диагностировал Данте.
Эндерби, вздыхая, сел рядом с Роуклиффом со свежей бутылкой фраскати, с высоким стаканом на столике перед собой, продолжая записывать суммы на клочке бумаги. Роуклифф с интервалами изрекал во сне афористические высказывания: нередко темные сообщения первого свихнувшегося путешественника в космическом пространстве.
«Не тратишь дыхание, катясь вниз по лестнице».
«Марио, сейчас же положи хлебный нож».
«Гадкий мальчик, хотя не без прелести».
«Во всех антолололологиях».
«От этого Эндерби совсем плохо станет».
Действительно, Эндерби совсем плохо стало после подсчета и обнаружения, что по самым либеральным итогам кредитный баланс в банке составляет чуть больше четырехсот девяноста фунтов. Бессмысленно себя спрашивать, куда делись деньги, он чересчур хорошо знал — они утекали обратно к источнику: мачеха их дала, мачеха и взяла, в юном, изысканно выражавшемся, нежно-голубином, весенне-благоухающем, совершенно невероятном обличье, забирала обратно. Роуклифф. Роуклифф во сне крикнул:
— Ага! Лодка не мужчина, а женщина-с-ребенком. Я все прочее перестрелял. Назад, зверюга, назад. Стремительное, красивое, упрямое море слез Хопкинса[111]. Эндерби очень плохой поэт. Очень умно с его стороны со всем этим покончить.
Эндерби сурово ответил смутному голосу.
— Я вовсе не покончил, — объявил он, что на время заставило спящую личность Роуклиффа умолкнуть.
Самому себе Эндерби сказал:
— Если удастся поддерживать отношения на самом поверхностном уровне, ибо поверхностно я вполне ее люблю, можно будет придумать какое-то удовлетворительное сосуществование. Только приказаний не потерплю. В конце концов, у нее неплохая работа, поэтому я могу в крайнем случае сам отказаться работать или искать мне работу. Дома в Суссексе места много. Желудок мой лучше.
Спящий голос Роуклиффа снова заговорил из внешнего пространства:
— По-моему сделаешь, Винсент. Не буду называть тебя Реджи, старой королевой. Ты еще не старый. — Потом: — Богу должно очень льстить, что мы Его выдумали. — И наконец, перед падением в бессловесный серьезный сон, заговорил голосом Йейтса, голосом Свифта, голосом Иова: — Погибни день, в который я родился[112]. — Эндерби передернулся: вино показалось кислее обычного.
На премьеру фильма приехали с опозданием. Кинотеатр стоял на какой-то неведомой улице, где-то за виале Авентино, таксист нашел ее с трудом. Подобно всем шоферам такси, он сперва отрицал существованье того, о существованье чего ему самому неизвестно, пока Эндерби не помахал перед усатой физиономией пригласительным билетом. Фасад кинотеатра унижает, пожалуй, весь оставшийся Рим, думал Эндерби, помогая Весте выбраться из машины. В скульптурном и архитектурном смысле остальной Рим представлял собой хлам, но хлам в гипнотическом барочном масштабе, наподобие болезненной мании величия какого-нибудь болтливого душевнобольного с общим параличом. Но это была истинная блошиная дыра, судя по виду, миниатюрная сумма всех вошебоек, куда Эндерби стаивал в детстве в уличных очередях по субботам, стиснув в липком кулаке два пенса, отпугивая запахом своего грязного шерстяного костюма других липших к нему вонючих детей, если его, единственного из всех, умевшего читать, не пропускали в давке у входа. Один аспект старого немого фильма, рассуждал Эндерби, был ответвлением литературы. И сказал теперь Весте:
— Войдешь в такое место в блузке, а выйдешь в джемпере. — И шутливо ущипнул за локоть, но она выглядела царственно равнодушной.
— В блузке? — переспросила Веста. — Да я ведь не в блузке. — И правда, она была в черном шелке от своей couturière[113], дамы-римлянки, без рукавов, на спине декольте, с плеч от вечерней прохлады висят хвосты норок. Эндерби в белом смокинге, с куском черного шелка в нагрудном кармане в топ галстуку. Впрочем, кажется, не было нужды стараться: ни толп поклонников, ни сияющих в маниакальном обилии прожекторов звездных ртов из коралла и слоновой кости, ни столпившихся «кадиллаков» и «бентли». Немного приличных «фиатов», оставленных без присмотра, которые, видно, водили сами владельцы; аляповатый плакат на плачевном фасаде стиля рококо, окруженный дешевыми крашеными лампочками, объявлял: L’ANIMAL BINATO. Мужчина, забравший у них пригласительные билеты, угрюмо что-то жевал впалыми, плохо выбритыми щеками. Это унижало Весту, унижало Рим. Разумеется, мало что, думал Эндерби, может унизить Эндерби.
Их с фонариком проводили на место. Эндерби ощутил под собой драный дешевый плюш, в темноте слышал запах, апельсиновый, сильный, резкий. И апельсиновый, оранжевый бескровный свет согревал потрепанные занавески на сцене. Тут последние, будто лишь Эндерби с его женой дожидались, разъехались под громкий шум киномузыки, банальной, уместно зловещей. Эндерби вглядывался во тьму: по ощущению и по звукам казалось, что публики не слишком много. Экран сообщил: L’ANIMAL BINATO, после чего возникли размытые прыгавшие имена конспираторов: Альберто Формика, Джорджо Фарфалла, Мария Вакка, А.Ф. Корво, П. Раноккио, Джакомо Капра, Беатриче Паппагалло, Р. Конильо, Джованни Кьочьола, Джина Гатто. Роуклифф возник ближе к концу, тоже итальянизированный, насколько Эндерби мог судить, нечто вроде Рауклиффо. «Так ему и надо», — подумал Эндерби и поделился этой мыслью с Вестой. Она сказала шшшшш. Фильм начался.
Ночь, сплошная ночь, кривые кипарисы, озаренные молнией. Гром. (Веста ногтями впилась в руку Эндерби.) Бурный ветер. Камера поднимается по ступеням террасы, где стоит красивая женщина, выставляя напоказ при молнии очень много итальянских грудей. Под удар грома воздела к грозовым небесам руки банальным жестом. Камера опрокинулась к небу. Другой пучок молний расколол тучу, как чайную чашку. Гром. (Ногти Весты.) Камера под новым углом показывает нечто устремившееся к земле, мелькает что-то белое. Новый кадр: деревянная корова во вспышке молнии. Красивая грудастая женщина величественно направляется сквозь грозу к деревянной корове. В молниях видно, как она что-то делает непонятное, дергает за какой-то рычаг или вроде того, после чего под аккомпанемент музыкального трескучего удара деревянная корова открылась, стала двумя пустыми коровьими половинками. Женщина влезла в стоявшую половину, корова закрылась, заключив в себе женщину. Новый кадр — белый бык, храпящий громче грома, разрывающий небеса, похотливый бык с неба.
— Знаете, — с изумлением сказал Эндерби, — поистине поразительное совпадение.
— Шшшшш, — сказала Веста. Эндерби огляделся приспособившимся к темноте взором, обнаружив кинотеатр полупустым, впрочем, рядом в свете экрана сидел огромный мужчина с брылами, с мешками под глазами, с горевшей в пальцах сигарой, который уже спал и легонько храпел.
День. Руританский дворец, красивый усатый царь, выживающий из среднего возраста, совещается с подобострастными бородатыми (фальшивобородыми) советниками. Фанфары. Совещание кончено. Один советник, коварный, типа Яго, остается, говорит с царем. Глаза царя банально туманятся подозрением. Отдельные итальянские слова, понятные Эндерби, вырывались со звуковой дорожки: царица, корова, Дедало. Приказано доставить Дедало. Новый кадр: мастерская Дедало. Дедало и Икаро, жестковолосый сын Дедало, строят аэропланы. Дедало — очень старый и тощий мужчина. Выслушав приказ от слуги, он раскатывает закатанные рукава рубашки, натягивает пиджак 1860-х годов, шагает коридорами лабиринта, добрый старик, глаза умные, лицо в глубоких морщинах. Вот он предстает пред царем. Долгая неразборчивая итальянская беседа с многочисленными мельтешащими красноречивыми жестами. Сердитый царь наносит пощечину морщинистому лицу Дедало. Тип типа Яго уходит с маслеными поклонами, оставляя в царских руках проблему сохранения царского лица. Дедало утаскивают пытать.
Эндерби теперь испытывал другое чувство, кроме изумления; желудок разбух от щекочущего предчувствия: это больше чем совпадение.
— Вам не кажется, — обратился он к Весте, — что это несколько более чем похоже на мою поэму? Вам не кажется…
— Шшшшш, — сказала она.
Храпевший рядом с Эндерби мужчина проговорил во сне:
— Tace[114].
Эндерби, вспомнив говорившего во сне Роуклиффа, сказал:
— Сам tace, задница. — И сообщил Весте: — Точно как в «Ручном Звере». — И вспомнил, что она еще не читала, фактически, не проявляла желания прочитать. И мрачно уставился на экран, продолжая раскручивать подлость Рауклиффо.
День. Беременная царица в изгнании сидит в жалком домишке со старой каргой. Разговоры. Родовые схватки. Потом затемнение, новый кадр: врач летит галопом издалека. Из дверей спальни доносится рев. Врач входит в спальню. Крупный план: лицо врача. Ужас, недоверие, тошнота, обморок. Крупный план с омерзительным диссонансом: то, что видит врач, — голова теленка на теле младенца.
— Это мое, — заявил Эндерби. — Мое, я вам говорю. Попадись только мне чертов Роуклифф…
— Это ничье, — заметила Веста. — Просто миф. Даже я знаю.
— Тасе, — всхрапнул сосед Эндерби.
В монтажном ряду кадров теленок-дитя вырос в быка-мужчину, чудовищного, мускулистого, огнедышащего, гигантского. Украв с кухни кусок сырого мяса, бык-мужчина осознает плотоядность своей натуры. Убивает и съедает старую каргу. Пытается убить мать, которая убегает, с визгом падает со скалы, но несъеденная. Хорошая, первоклассная шутка. Бык-мужчина, огромный, с десяток домов, топает в столичный город, оставляя за собой шлейф костей. Новый кадр: дворцовые сады, где царевна Ариадна, выставляя напоказ груди порядочного размера, играет в мячик с хихикающими, предназначенными для этого девушками, выставляющими напоказ груди. Крупный план: зверь пускает в кустах слюни. Вопли, суета, Ариадна на спине быка. Слюнявый бык тащит ее, визжащую, в подвалы столичного музея. Кратко в кадрах мелькают бесценные картины, редкие книги, величественные скульптуры, звуки великой музыки, пока бык-мужчина с ревом прокладывает себе путь в убежище глубоко внизу под земными памятниками культуры. Ариадна выставляет напоказ еще больше грудей, визжит громче.
Однако бык-мужчина не хочет ее есть, пока в любом случае.
Эндерби крепко сжал кулаки, поблескивая в прерывистых вспышках света с экрана костяшками.
Развязка. Альпийско-итальянский герой с головой Муссолини врывается в глубокие подземелья, бредет во тьме, слышит рев быка, визг царевны, находит чудовище с жертвой, стреляет, обнаруживает недействительность пуль, ибо по отцовской линии бык-мужчина — творение инопланетного мира. Ариадна бежит, визжит, выставив римскую грудь напоказ до предела приличий, а тем временем ревущий зверь, поражаемый в грудь, быком прет на героя. У героя, как у сиятельного Велисария, имеется мешочек с перцем. Он швыряет его содержимое в зверя, на время его ослепив. Под вой-рев-чихание герой бежит. О, чудо, потомки: Дедало с Икаро в летающей машине, на несколько десятков десятков десятилетий опередив время, бросают на столичный музей бомбу. Рев умирающего быка-мужчины, грохот статуй, падение и шелест охваченных огнем книг, горит улыбка Моны Лизы, лопаются струны арф. Гибнет культура, гибнет прошлое; рациональное будущее, влюбленные обнимаются. У Дедало с Икаро проблемы с мотором. Они рушатся в море на фоне роскошного заката. Небесные голоса. Конец.
— Попадись только мне, — дрожащим голосом пригрозил Эндерби, — чертов Роуклифф…
— Кончайте, слышите? — по-настоящему резко сказала Веста. — Я никак не могу понять. Ничего вам не нравится, ничего. По-моему, вполне милый фильм ужасов, а вы все твердите, будто его у вас украли. Мания величия, что ли?
— Я вам говорю, — сердито-терпеливо сказал Эндерби, — этот гад Роуклифф… — В зале мягко зажегся свет, сплошь тошнотворно-сладкий апельсиновый, осветил публику, которая аплодировала и кричала bravo, brava, bravi, словно целому семейству пап. Рядом с Эндерби лучезарно очнулся огромный мужчина, раскурил давно потухшую сигару, после чего открыто рассмеялся над стиснутыми кулаками Эндерби. Эндерби приготовил двенадцать непристойных английских слов для основного скандала (далее вариации и украшения), но его вдруг осенило, как удар по макушке, что хватит с него слов, непристойных и прочих. И он с яростной сахаринной сладостью улыбнулся Весте, спросив так, что она пристально оглядела в поисках сарказма все его лицо целиком:
— Пойдемте теперь, дорогая?
«В Англии, — думал Эндерби, — поздно вечером значит после закрытия пабов. Тут нет пабов, которые закрывались бы, поэтому еще не поздно». Они с Вестой взяли кеб с лошадью, или carrozza[115], или как его там, до виа Мармората, цокавший по берегу Тибра, пока Эндерби пичкал жену усыпляющими речами.
— Я в самом деле хочу постараться, правда. Стал взрослеть слишком поздно, как вы понимаете. Я действительно страшно вам благодарен за все, что вы сделали для меня. Обещаю, постараюсь повзрослеть, знаю, вы мне в этом поможете, как во всем остальном помогли. Нынешний фильм убедил меня в истинной необходимости поистине общаться в обществе.
Веста, которая была прекрасна в римской ароматной июньской ночи, нежный ветерок по дороге шевелил, но легко, ее волосы, настороженно на него взглянула, хотя ничего не сказала.
— Я хочу сказать, — сказал Эндерби, — смысла нет жить в уборной с ничтожным доходом. Вы были полностью правы, настаивая на растрате всего моего капитала. Я должен заработать себе место в мире. Должен прийти к согласию с публикой, давать публике то, чего она хочет, в разумных пределах. Я хочу сказать, разве многие захотят читать «Ручного Зверя»? Максимум пара сотен, а кино посмотрят миллионы. Я понимаю, я все понимаю. — Он напомнил себе о главном протагонисте рекламы антиалкогольного средства в «Старом альманахе Мура»: лекарство искусно вливают в чай пьянице, и мгновенный результат — пьяница простирает руку к небесам, а жена, облегченно рыдая, виснет у него на шее. В целом дерьмо жуткое.
Веста, с тем же подозрительным взглядом, сказала:
— Надеюсь, вы это серьезно. Я не про кино, а про обещание стать немножко нормальней. Вы в жизни столько всякого упустили, правда? — И протянула руку, холодный подарок. — О, знаю, звучит, наверно, немножечко претенциозно, но я понимаю свои обязательства перед вами, не обыкновенный долг жены перед мужем, а больше. Мне доверена забота о великом поэте. — Лошадь справедливо заржала; на острове Тиберина грянула масса фанфар.
— И вы абсолютно правильно, — продолжал Эндерби, — привезли меня в Рим. Это мне тоже ясно. Вечный Город. — Он почти наслаждался. — Символ общественной жизни, символ духовного возрождения. Но, — робко спросил он, — когда мы вернемся? Я так спешу, — пояснил он, — вернуться затем, чтоб начать нашу истинную совместную жизнь. Жду не дождусь, — сказал он, — когда мы с вами останемся в нашем собственном доме, просто вдвоем. Давайте, — предложил он, внезапно подпрыгнув со школьническим нетерпением, — завтра вернемся. Можно, наверно, достать пару мест на какой-нибудь самолет, а? О, давайте вернемся.
Она вырвала у него свою руку, и Эндерби ощутил когти страха, не лишенного сходства с изжогой: может быть, она весь спектакль насквозь видит. Но Веста сказала:
— Нет, нельзя возвращаться. Пока. В любом случае, еще с неделю. Понимаете, кое-что надо устроить. Собственно, сюрприз задумывался, но лучше сейчас вам сказать. Я признала хорошей идеей пожениться нам с вами тут, в Риме, по правилам. Я не брачную мессу имею в виду или что-то подобное, только простой обряд.
— О, — просиял Эндерби, глотая ком за комом тошноту и злобу, — какая действительно очень прекрасная мысль!
— Один очень хороший священник по имени, кажется, отец Аньелло, завтра с вами придет повидаться. Я с ним познакомилась у княгини Виттории Коромбона. — Она трелью со вкусом пропела имя, с нежной любовью к титулу.
Ложный Эндерби тяжело дышал, силясь запихнуть Эндерби Настоящего обратно в чулан.
— Что священник, — полюбопытствовал он, — делал в магазине готового платья?
— О, какая чепуха, — улыбнулась Веста. — Княгиня Виттория Коромбона не держит магазин готового платья. Она пишет в «Фем» кинослухи. Отец Аньелло большой интеллектуал. Долго прожил в Соединенных Штатах, идеально говорит по-английски. Он, как ни странно, читал один ваш стих — богохульный, о Деве Марии, — и ему очень хочется пару раз хорошенько подольше с вами потолковать. А потом, разумеется, он послушает вашу исповедь.
— Ну, — улыбнулся Эндерби, — приятно знать, что кто-то обо всем позаботился. Какое облегчение. Знаете, я действительно в высшей степени благодарен. — И стиснул ее руку на повороте на виа Национале: огни, огни, Американский Закусочный Бар, банк Духа Святого, магазин за магазином за магазином, оживленный и освещенный аэровокзал, гостиница. Разжиревшая лошадь остановилась рывком и фыркнула, не специально на Эндерби. Кучер поклялся, что счетчик врет, механическую неполадку трудно исправить, слишком мало показывает. Эндерби спорить не стал. Дал на пятьсот лир больше натиканного и сказал кучеру:
— Ты тоже сволочь. — Рим; как же он любит Рим!
Эндерби наблюдательно и настороженно выжидал в баре отеля. Были там поздние любители кофе за столиками, многоречивые ораторы на быстрых иностранных языках, в целом дюжина или десяток; всех их Эндерби обменял бы на Роуклиффа. Хорошо бы, вчерашнее утро вернулось хоть на пять минут, в баре только он, Данте и Роуклифф; чертовски здорово двинуть разок по пролептически в кровь разбитому носу. «L’Animal Binato», надо же. Муза наверняка сейчас очень расстроена, пышет дымом, как гарпия, столько труда впустую. В ожидании третьего стакана фраскати Эндерби посмотрел на прелестную Весту за бокалом перно, потом скорчился, симулируя боль в желудке.
— У-у-у-ф-ф-ф, — сказал он, — разрази тебя. — Арррргх.
— Чересчур много пьете, вот где ваша проблема, — заметила Веста. — Ладно, пошли ложиться в постель. — Эндерби, до конца артист, издал душераздирающее бурчание, как в старые времена. Грерррхрапшшшшшш. Она озабоченно приподнялась.
— Нет, — сказал Эндерби. — Тут обождите. На первом этаже уборная. Правда, ничего такого. — И улыбнулся, лжец, сквозь смертельные муки, усадив ее обратно. Щеки раздул, как гаргулья, кивнул энергично, указывая, что это указывает на то, на что должно указывать, и ловко вышел из бара, урча, харкая, к изумленью кофейничавших, в вестибюль. А там торопливо сказал шустрому администратору с неискренней золоченой ухмылкой, стоявшему за конторкой в обрамлении из светящихся трубок:
— Я должен в Лондон вернуться. Жена здесь останется. Не хочу, чтоб вы думали, — виновато добавил Эндерби, — будто я убегаю или что-нибудь вроде того. Если желаете, счет оплачу по сей день. Но ведь я багаж оставляю. Все, кроме одного саквояжика. Надеюсь, проблем не возникнет, правда? — Почти приготовился сунуть администратору за молчание бумажку в тысячу лир, только вовремя передумал. Администратор, изящно склонив голову, как будто прислушиваясь, тикают ли часы в невидимом жилетном кармане, сказал, что проблем не возникнет, однако синьор Эндерби должен понять: скидка на время отсутствия синьора Эндерби не предоставляется. Синьор Эндерби с радостью понял. — Мне хотелось бы, — сказал он, — звякнуть в аэровокзал на этой же улице. Можете дать мне номер? — Администратор с большим удовольствием посодействовал со звонком: можно позвонить из какой-нибудь будки вон там.
Из будки Эндерби видел, как Веста ест сандвич с ветчиной. Видимо, с ветчиной, так как мазала каждый кусочек горчицей, — видимо, горчицей, судя по форме баночки. Постарался, не затратив большого труда, выглядеть очень плохо на случай, если она взгляд поднимет и его заметит. А если подойдет, можно будет прикинуться, будто он слепо ткнулся сюда, в будку, с виду похожую на кабинку уборной; а если увидит, что он настоятельно разговаривает по телефону, прикинется, будто врачу звонит. Тут голос заговорил по-английски с Эндерби, и Эндерби тайком сообщил:
— Говорит Эндерби. — Имя явно ничего не сказало любезному голосу клерка. — Я хочу, — сказал Эндерби, — улететь в Лондон по возможности первым же самолетом. Очень срочно. У меня уже куплен билет в первый класс, но, понимаете, на двадцать пятое, или на двадцать шестое, или еще на какое-то там… не совсем помню точную дату. Дело очень-очень срочное. Бизнес. И мать у меня умирает. — Соболезнующего чмоканья не последовало: эти римляне бессердечные сволочи. Голос сквозь шелест бухгалтерских книг отвечал: ему кажется, должны найтись свободные места в самолете БОЭК[116] из Кейптауна, прибывающем в Рим в пять тридцать утра. Голос перезвонит, подтвердит или опровергнет. — Вопрос жизни и смерти, — предупредил Эндерби. Хотя голос как бы знал о намеренье Эндерби сбежать от жены.
Веста, прикончив сандвичи, ковыряла в передних зубах старым билетом лондонской подземки, вытащенным из сумочки. Сумка стояла открытая, очень неаккуратно, но Эндерби в ней заметил связку ключей. Ключи ему понадобятся: в квартире на Глостер-роуд находятся определенные необходимые вещи. Глядя на ковырянье в зубах, он кивнул: еще одна вещь наставляла его на путь, на который он вступил.
— Как теперь себя чувствуете? — поинтересовалась она.
— Гораздо лучше, — улыбнулся Эндерби. — Почти все вывалил. — С тем, что в банке еще остается, с тем, что он считает для себя возможным законно у нее украсть (главным образом норка), можно было бы, по его мнению, на год-другой вернуться к подобию прежней жизни: одинокий поэт на том или другом убогом чердаке, на жидкой похлебке и хлебе, старается помириться с Музой. На потерю капитала он не ропщет. Больше нет. Деньги, в конце концов, мачехины, и вот она, мачеха, сидит теперь тут, вытаскивает из моляров волокна ветчины, пусть даже грациозно и без показухи; жаждет эти деньги потратить. Конечно, проценты — дело другое. Церковь всегда осуждала ссуду денег под проценты, поэтому ни один добрый католик при возвращении долга не вправе претендовать на прирост. Решив быть справедливым, Эндерби также решил тут быть чистым протестантом. Улыбаясь про себя, он подпрыгнул от неожиданности, когда громкоговоритель окликнул его по имени.
— Кто, ради всего святого, — удивилась Веста, — может вам звонить в такой поздний час? Сидите, я отвечу. Вид у вас еще бледноватый. — И встала.
— Нет-нет-нет, — возразил Эндерби, грубо толкнув ее обратно в плетеное кресло. — Вы об этом ничего не должны знать. Сюрприз, — попытался он улыбнуться. Она скорчила гримасу, вытащила из сумочки заколку для волос, принялась ковырять в левом ухе. Эндерби рад был это видеть.
Голос клерка с удовольствием подтвердил, что место на самолет из Кейптауна забронировано. Эндерби должен быть на аэровокзале в четыре; дежурный клерк обменяет билет.
— Deo gratias, — выдохнул Эндерби, имея в виду grazie[117]. Но только литургическая благодарность, рассуждал он, в силах выразить облегчение от перспективы бегства, со всеми его предметными и сопутствующими значениями, из Рима.
— Все в порядке, — подмигнул он Весте. — Не спрашивайте, что именно, но все готово. — Встав, чтобы вернуться в номер, заметил на столе заколку с забитой ушной серой головкой. И взял Весту под руку даже с какой-то любовью.
Фактически, бодрствовать до половины четвертого было не трудно. Фактически, трудно было собираться ночью, когда Веста, как правило, хорошо, по-шотландски крепко спавшая, решила не успокаиваться и во сне разговаривать. Эндерби подозрительно наблюдал за ней, лежавшей ничком, распростертой, сбросившей одеяла с кровати, с ягодицами, посеребренными светом римской луны до сходства с меренгой. Очаровательно, но отныне пускай очаровывает кого-нибудь другого. Он прокрался в носках через посеребренную комнату, внезапно замирая в статуарном танце при каждом сонном ее бормотании, а когда она раздражительно перевернулась с живота на спину, бросился в темный угол к окну и прижался к стене, как бы для измерения роста. На спине она бросила незнакомые слова в потолок, захихикала, но Эндерби не позволил себя запугать. Вытащив из верхнего ящика комода свой паспорт, билет на самолет, решил взять и ее документы с билетом, несколько минут потратив на нравственные раздумья. Теперь ей, очнувшейся и осознавшей бегство Эндерби, не удастся за ним сразу погнаться. Впрочем, он положил на камин несколько тысяч или миллион лир, зная вдобавок, что у нее имеется собственный аккредитив. Хотя Веста с Римом замечательно подходили друг другу, Эндерби по всей совести был не в силах обречь ее на насильственное слишком долгое там пребывание, полагая, что у него все же хватит гуманности не пожелать подобного даже злейшему врагу.
Одного чемодана оказалось достаточно для одежды и бритвенных принадлежностей. Лосьоны, и кремы, и спреи, которые она велела купить, — все это Эндерби решил бросить: никому никогда больше уж не захочется его нюхать. Теперь встал вопрос о ключах от квартиры, где оставалась пара коробок, набитых набросками и заметками. Машинописный экземпляр «Ручного Зверя» заперт в ящике ее личного секретера, пусть там остается. Его, мрачно признал Эндерби, занимало больше содержание, чем форма, а содержание было украдено и исковеркано. Пусть это послужит для него уроком. И он теперь щурился в лунном свете в поисках сумочки Весты, плоского серебряного конвертика, куда она — женщина, которая с остаточной шотландской экономностью терпеть не может что-либо выбрасывать, — вывалила в тот вечер всю кучу хлама из черной сумочки из серой сумочки из белой сумочки из синей сумочки. Серебряную сумочку, еще больше посеребренную светом, он увидел на тумбочке возле ее кровати. Неуклюжей балериной подкрался на пуантах, но, как только собрался схватить, Веста быстро перевернулась, вытянулась на постели по диагонали, голая тонкая рука серебряным засовом упала на столик, на сумочку. Эндерби нерешительно замер, стоял, затаив дыхание, гадая, хватит ли у него духу рискнуть. Тут она с той же скоростью перевернулась на спину, впрочем, левую руку оставив на тумбочке, и заговорила из глубокого сна.
— Пит, — сказала она. — Пит, сделай так еще раз. Ох, Пит, обалдеть, черт возьми. — Акцент грубый, с намеком скорее на Горбалс[118], чем на Эскбэнк; вдобавок спящая Веста начала прибегать к грязным терминам, предполагавшим крайнюю развязность. Эндерби в ужасе слушал, успокоив в конце концов нервы соображением, что спящему все позволено, даже некрофилия. Он не стал предпринимать попыток вытащить сумочку из-под серебряной руки; возможно, в квартиру удастся войти без ключа. Совершить проникновение, как говорится. Теперь ему хочется совершить бегство, причем поскорей.
Пока он нашаривал дверную ручку, скрытую под норковой шубой, висевшей на дверном крючке, возникло впечатление, будто она почти что воспряла от сна; в конце какого-то длинного коридора ствола головного мозга Эндерби резко, предупредительно звякнул какой-то звонок. Он ее успокоил словами и звуком:
— Брарррх. Просто иду в уборную. — Последние адресованные ей слова при тихо взятой под руку норке. Она что-то буркнула, облизнулась, потом, как бы удовлетворенная, начала опускаться к более глубоким уровням сна. Эндерби открыл дверь и вышел. Секунду постоял, успокаивая громкое сердце, испытал осторожное ликование в предчувствии, что скоро, в самолете, испытает полное, ничем не ограниченное ликование.
Когда он взвешивал чемодан, оплачивал груз, покупал на автобус билет, зашевелился стих:
Мачеха Запада…
Эндерби с волнением ждал, когда образы попадут в фокус, — Император и Папа, пантомима одной и той же дамы, больше никакого красного мяса после изобилия на рычащей арене, старая сука-волчица с отвисшими сосками, большой задний двор с разбитыми колоннами в ожидании мусорщика; Эндерби с нетерпением ждал рифмованных строчек. Город, голод. Дальше ничего.
Мачеха Запада, наипродажнейший там-там-там город
Из всех. Пользуясь сукой-волчицей,
Ромул и Рем утоляют там-там-там-там голод,
Там-там из сточной канавы водицей.
В автобусе до Кьямпино Эндерби, хмурясь, призывал Музу сделать что-нибудь с этим хламом. Посаженный в самолете рядом с негром-священником, он ворчал и хмурился так, что стюардесса пришла и спросила, в чем дело. Личность подозрительная: ворчит, хмурится, норковая шуба в багажной сетке над головой. Эндерби смотрел вниз на Рим, уже совсем забыв о Весте. Надеясь, что на прощанье удастся шепотом процитировать хоть станс стиха. Расстроенный, полный неких предчувствий, помня пророчество предателя Роуклиффа, он сумел выдумать только прощание, выходившее за грань слов, которое негр-священнослужитель явно принял за неуважительный комментарий относительно цвета своей кожи:
Фффффрррррерррррпшшшшшш.
— Вам абсолютно не о чем беспокоиться, — заверил доктор Престон Хоукс. — Снимки отрицательные: ни ТБЦ, ни карциномы, ничего. — И поднял парочку мутных портретов Эндерби изнутри. — И все прочее точно так же. — У него был громкий северный голос, кое-какие гласные кустарно приближались к нормативному языку. — Можете идти со спокойной душой. — Молодой, чрезвычайно зубастый, взъерошенный, загорелый, он как бы побочно рекламировал оздоровительные возможности курорта, где практиковал. — Если сода помогает от диспепсии, просто сидите на соде. Но в принципе ваш желудок с кишечником идеально здоровы.
— Вы бы сказали, — уточнил Эндерби, — что в ближайшем будущем я вряд ли умру, да?
— О, дорогой дружище, — сказал доктор Престон Хоукс, — никто из нас этого никогда знать не может. Кроме обычных жизненных случайностей — наезд, удар током, поскользнулся в ванной, — всегда существует определенный неведомый фактор, выявлению не подлежащий. Мы знаем много, — сказал он, — однако не все. Но, насколько я вижу, физически вы здоровы и можете прожить много лет. — И засиял перед Эндерби, словно жарившийся ломтик картошки. — Конечно, — оговорился он, — сердечные тоны не так хороши, как могли бы. Упражняйтесь: теннис, гольф, прогулки. Хорошо бы слегка похудеть. Воздержитесь от жареного; не ешьте слишком много крахмала. Работа у вас сидячая? Писарь какой-нибудь?
— Пожалуй, в устаревшем смысле, — признал Эндерби. — Я, — объяснил он, — поэт.
— Вы хотите сказать, — недоверчиво переспросил доктор Престон Хоукс, — это ваша работа?
— Была, — сказал Эндерби. — Собственно, я поэтому к вам и пришел. Понимаете, больше стихов не пишу.
— О. — Доктор Престон Хоукс заволновался; простучал по столу в разные стороны упражнение для пяти пальцев с застывшей на губах нервной улыбкой. Заговорил теперь путаней, забормотал: — Ну, по-моему, вряд ли… я хочу сказать, это меня не касается, правда? Я хочу сказать, на мой взгляд… То есть, если вы больше стихи писать не собираетесь, что ж, желаю удачи. Максимальной удачи и прочего. Только это целиком и полностью ваше личное дело, правда? В любом случае, я бы так сказал. — И принялся, пусть неумело, выполнять ритуал человека, чье время дорого: синдром нервного копанья в бумагах, косые взгляды на часы, близоруко прищуренные взоры над головой Эндерби, точно в двери над косяком должен был просочиться другой пациент.
— Нет, — сказал Эндерби, — вы неправильно поняли. Я имею в виду, стихи больше писать не могу. Стараюсь, стараюсь, а ничего не выходит, ничего не приходит. Понимаете, что я имею в виду?
— О да, — опасливо улыбнулся доктор. — Вполне. Ну, я бы на вашем месте слишком не беспокоился. Я хочу сказать, в жизни другие вещи есть, правда? Солнце светит, дети играют. — Это была буквальная истина; доктор Престон Хоукс поднял руку, словно сам под присягой свидетельствовал о теплых вечерних лучах за окном, о шумно верещавших по пути на пляж детях. — Я хочу сказать, писание стихов еще не все в жизни, правда? Найдете другое занятие. Жизнь еще вся перед вами. Лучшее впереди.
— А какова, — спросил Эндерби, — цель жизни?
Доктор просветлел при этом вопросе. Он был достаточно молод, чтобы иметь на него ответы, ответы, хорошо проработанные на студенческих диспутах с дымящими трубками.
— Цель жизни, — с готовностью доложил он, — в жизни. Сама жизнь есть цель жизни. Живи здесь и сейчас, получая от жизни все возможное. Жизнь — это жизнь, квадратными дюймами и круглыми минутами. Цель в процессе. Жизнь такова, какой ты ее сделаешь. Поверьте, я знаю, что говорю. Я, в конце концов, доктор. — И улыбнулся каким-то рамочкам на стене, двум своим должным образом удостоверенным дипломам бакалавра.
Эндерби энергично и мрачно затряс головой.
— Не думаю, будто Китс так ответил бы. Или Шелли. Или Байрон. Или Чаттертон. Мужчина, — сказал он, — как дерево. Плоды приносит. Когда перестает приносить, его жизнь кончается. Поэтому я и хотел выяснить, не умираю ли.
— Слушайте, — резко перебил доктор, — это просто куча болезненной ерунды. Все обязаны жить. Для этого и существует Национальная служба здравоохранения. Чтобы помогать людям жить. Вы здоровый мужчина, перед вами годы жизни, надо этому очень радоваться, быть очень благодарным. Иначе, давайте признаем, вы богохульствуете против жизни и Бога, против демократии, да, и против Национальной службы здравоохранения. Это нечестно, правда?
— Но зачем мне жить? — спросил Эндерби.
— Я вам говорил, зачем жить, — еще резче бросил доктор. — Не заметили, да? Живите ради жизни. И разумеется, ради других. Живите ради своей жены и детей. — И позволил себе бросить на две секунды любовный взгляд на стоявшую на столе фотографию: миссис Престон Хоукс играет с мастером Престоном Хоуксом, мастер Престон Хоукс играет с плюшевым мишкой.
— Жена у меня была, — сказал Эндерби, — только очень короткое время. Я оставил ее почти год назад. В Риме. Мы просто не поладили. Вполне уверен, что у меня нет детей. По-моему, могу абсолютно точно сказать.
— Ну, тогда хорошо, — сказал доктор. — Но конечно, есть множество других людей, которым вы нужны. Друзья и так далее. Как я понимаю, — осторожно добавил он, — еще остаются любители читать стихи.
— Уже написанные, — сказал Эндерби. — Пусть читают. А больше не будет. И я, — сказал он, — не из тех, у кого есть друзья. Поэт должен оставаться один. — От этой риторически высказанной против воли банальности взгляд его остекленел, он неловко поднялся со стула.
Смотревший телеспектакли доктор подумал, будто видит в Эндерби признаки замышляемого самоубийства. Он был неплохим врачом. И сказал:
— Вы ведь никаких глупостей не собираетесь натворить, а? Я хочу сказать, подобные вещи никому ничего хорошего не приносят, правда? Я хочу сказать, особенно после того, как вы у меня побывали, и прочее. Жизнь, — сказал он без прежней уверенности, — надо прожить. У всех у нас есть обязательства. Знаете, я про вас в полицию сообщу. Не делайте чего не следует. Слушайте, если хотите, я вам консультацию у психиатра устрою. — И сразу руку протянул к телефону, готовый немедленно бросить на благо Эндерби все силы Национальной службы здравоохранения.
— Не беспокойтесь, — успокоил его Эндерби. — Я не сделаю ничего, что сочту глупым. Обещаю.
— Поживите немножечко, — безнадежно посоветовал доктор. — Встречайтесь с людьми. Телевизор смотрите. Выпейте время от времени в пабе, в разумном количестве можно. Сходите в кино. Пойдите посмотрите фильм ужасов за углом. Отвлечетесь.
— Я его в Риме видел, — сказал Эндерби. — Мировую премьеру. — Здесь, в Англии, «L’Animal Binato», «Двусущный Зверь», превратился в «Сына Инопланетного Зверя». — Фактически, — сообщил Эндерби, — я его написал. То есть его у меня украли.
— Слушайте, — сказал доктор Престон Хоукс и встал. — Я вообще без всякого труда устроил бы вам консультацию. По-моему, вы бы гораздо лучше себя почувствовали, поговорив с доктором Гринслейдом. Знаете, человек он хороший, очень симпатичный. Могу сейчас же звякнуть в больницу. Вообще без труда. Может быть, он вас первым же делом с утра примет.
— Ну, — сказал Эндерби, — не волнуйтесь. Принимайте жизнь такой, какова она есть. Живите по квадратному ярду, или как вы там говорили.
— Мне абсолютно не нравится то, что вы можете сделать, — заявил доктор Престон Хоукс. — Было б нечестно, если бы вы вернулись домой и покончили самоубийством прямо после визита ко мне. Лучше бы встретились с доктором Гринслейдом. Могу сейчас же позвонить. Могу прямо сейчас койку устроить. Не уверен, что вам сейчас можно идти одному. Только не в таком настроении, вот что. — Он стоял, молодой, сбитый с толку, бубня: — Я хочу сказать, в конце концов, у всех у нас есть обязательства друг перед другом…
— Я абсолютно нормален, — успокоил его Эндерби, — если это вас беспокоит. И вновь обещаю не совершать никаких глупостей. Если желаете, можете получить заверение в письменном виде. Я вам письмо пришлю. Напишу сразу по возвращении в свою берлогу. — Доктор Престон Хоукс покусал губу с одного конца до другого, а потом обратно, как бы проверив ее на прочность. Мрачно и неуверенно взглянул на Эндерби, не одобряя упоминания в данном контексте письма. — Все, — сказал Эндерби с убедительной широчайшей улыбкой, — будет хорошо. — Они поменялись ролями. — Вообще не о чем беспокоиться, — с докторской жизнерадостностью сказал Эндерби. Потом быстро ушел.
Прошел через приемную, полную народа, который, судя по виду, тоже не мог стихи писать. Одни, в спортивных костюмах, как бы готовились вырваться из сетей доктора Престона Хоукса, несли свои недомоганья легко, как пиджачный значок; другие, более официально одетые, считали болезнь типом церкви. Эндерби пришлось протискиваться, чтобы выйти. Он где-то посеял контактные линзы, а очки, которые прежде носил, по-прежнему предположительно оставались в квартире на Глостер-роуд. Если она, конечно, не выбросила все, что принадлежало ему. Шагая в роскошном приморском свете, Эндерби произнес слово «полиция». Если доктор собрался полицию на него натравить, надо действовать быстро. Он мысленно услыхал то, что мир называет здравым рассудком, как нечто топочущее в неуклюжих тяжелых ботинках. И вспомнил ботинки, которые его преследовали, застигнутого лучом фонарика легавого при попытке, только что вернувшись из Рима, проникнуть в квартиру через окно. Разумеется, можно было объясниться, но полиция в русле профессиональной тенденции к подозрительности вполне могла задержать его до приезда со временем Весты. Некоторые объяснения опровергла бы шуба из норки, брошенная на бегу. Поэтому он ткнул чемоданом констебля в промежность и между стартовым и финишным свистками финтил, пока — к своему изумлению, ибо считал подобные вещи возможными только в кино, — не умудрился удрать, юзом пронесшись по улочке и шмыгнув в переулок, выждав там, пока свистки безнадежно не защебечут вдали тропической заблудившейся птицей.
Майское солнце со свистом летело над морем, разливая над ним нечто вроде слепящего и пронизанного серебром мармелада. Это было не то море, возле рева которого он трудился с такой малой пользой над «Ручным Зверем», а северо-западный его собрат. Питало оно более шумный, более вульгарный курорт по сравнению с прежним домом Эндерби на Канале: больше смака в пабах, шире гласные; можно купить кувшин чаю, взять с собой в пески; на увеселительных пляжах в истерике бьются активные игральные автоматы; комик из концертировавшей под открытым небом труппы говорил партнеру, что, будь у него резиновые мозги, их не хватило б на пару подвязок для канарейки. «В моих жилах течет кровь, голубая, как незабудка», — объявлял партнер. «А у меня какая, по-твоему? — отвечал комик. — Одуванчиковая и лопуховая?» Странное место, подумали бы потомки, избранное для смерти.
Нынешним дивным вечером, заметил, присмотревшись, Эндерби, выстроились очереди на «Сына Инопланетного Зверя». В следующем подъезде, за два до кинотеатра, зияла холодная каверна аптеки, полная запахов мыла, праздного смеха в хранилище лекарств, печатных моментальных пляжных снимков с загорелыми руками и шеями. Эндерби пришлось ждать, пока отдыхающей женщине продадут заколки для волос, крем для кожи, перекись водорода и прочие стимуляторы жизни, прежде чем возникла возможность попросить смертельные средства. Наконец девушка в белом халате склонила перед ним набок голову:
— Слушаю, сэр?
Он испытывал смущение, будто презервативы приобретал.
— Аспирин, пожалуйста.
— Большую, сэр, маленькую? — Видно, есть разных размеров.
— Будьте добры, относительно маленькие. Мне много надо будет принять. — Она разинула на него рот, поэтому он пояснил: — Разумеется, не смертельную дозу. — И победно улыбнулся.
— Ха-ха, сэр. Надеюсь. Только не в такой чудный вечер. — И правда.
Эндерби вышел с бутылочкой с сотней таблеток. Всего у него оставалось ровно два пенса.
«Отлично, — решил он, — рассчитано время».
«Странный год», — размышлял Эндерби с потенциальной смертью в кармане, свернув с теплого, веселого, пивного, разноцветно-леденцового променада на Боггарт-роуд. Странный пустой год, или почти год.
Июнь — месяц брака, медового месяца, бегства. Он забрал из лондонского банка девяносто изображений костлявых львов. Купил губчатую сумку, сунул туда львов, обмотал сумочную тесемку вокруг брючной пуговицы, затолкал в брюки. Теперь сумка ходила с ним и сидела большой удобной мошонкой. Каждый носит с собой личный банк; весело в любой час расплачивается; никаких процентов (хотя, разумеется, и никакого превышения кредита); скромные запросы удовлетворяются без формальностей. Он поехал сюда, на северный курорт, с одобрением упомянутый как-то Арри (далеко от юга, от Лондона, Весты). Нашел уютный чердак с газом (уборная, совмещенная с ванной) у миссис Бамбер на Баттеруорт-авеню, перманентную вершину над преходящими отдыхающими постояльцами.
В июле и августе трудолюбиво составил том из пятидесяти лирических стихотворений (чистые копии, последние наброски лежали, к счастью, в чемодане, съездив в Рим и из Рима; масса прочих, сырых материалов еще оставалась или была выброшена из квартиры на Глостер-роуд, вероятно, уже недоступная). Том получил название «Круговая павана». Отпечатанный на машинке маленькой женщиной в машинописном бюро в Манчестере, он был отправлен и без особого энтузиазма получен издателем. В кабинках общественных уборных, покупая за пенни приватность, Эндерби запланировал длинную автобиографическую поэму белым стихом, типа «Прелюдии». С пока еще пухлой губчатой сумкой в штанах можно было позволить себе обождать, пока ушедшая в спячку или надувшая губы Муза очнется и образумится. Несколько получившихся поэтических автобиографических строк были уничтожены, переписаны, уничтожены, переписаны, уничтожены, переписаны, заспаны, прочитаны, перечитаны, переписаны, уничтожены. В августе и сентябре курорт стал большеротым от веселых гостей, носивших смешные шапчонки со слоганами (Попробуй, Со Мной Это Просто; Гуляй, Джо, Мама Не Узнает), липким от поцелуев, морской воды, эля, леденцов, карамели. Новостей ни от Весты, ни от кого-либо другого не поступало. Сидя как-то солнечным утром в общественной уборной, слыша, как дети по дороге на пляж весело колотят в ведерки лопатками, он смаковал, подобно фраскати, свое вновь обретенное одиночество. Хотя жаль, что ничего не может писать. Идея длинной автобиографической поэмы была отброшена; может, эпическая поэма о короле Артуре, или лорде Резерфорде, или об Олкоке и Брауне? Может быть, драма в стихах? Эндерби провел долгие каторжные часы в публичной библиотеке, притворяясь, будто работает по-настоящему, закладывает фундамент, собирает материал. Он ничего не написал.
Октябрь, ноябрь принесли дуновенье дурного предзнаменования. Дело вышло за рамки шутки. Конечно, денег еще оставалось достаточно, но становилось все непонятней, куда девать время. Он бродил по оглушенным морем, опустевшим улицам, подняв до ушей воротник, пытаясь запустить поэму, возвращался к безнадежности и похлебке, к миссис Бамбер, настойчиво поднимавшейся на чердак и сидевшей, рассказывая о своем прошлом, которое напоминало об устричных барах и «Винном погребе» Йейтса.
Если бы, клялся Эндерби на Рождество, если бы подан был хоть какой-нибудь ободрительный знак, что ему вновь удастся писать, то, когда деньги кончатся, он добровольно подыщет то или другое пустое занятие, станет повременным поэтом, продолжающим жить ради Музы.
К концу января он проснулся затянутым морозом утром с певшим в ушах стихом. Слава богу, облегчение. Записал крошечное телеграфное сообщение и потратил все утро на его совершенствование в окончательном виде:
Ты — врата, куда рота за ротой
Вторглась целая армия.
Добьешься ли снова триумфа,
украсишь ли их позолотой
И каменной аркой?
Цветы неизбежно поблекли, а войско
Теперь на далекой равнине жаркой.
Перечитывая, он понял, и волосы у него встали дыбом, что это личное послание, послание ему от нее.
Только утром однажды умоешься
Или днем с чашкой чаю устроишься,
И, возможно, узришь
Небес разверзшихся свет,
Сонм поющих святых под раскачанные колокола.
Ну а может, и нет.
Он почувствовал, что обливается липко блестящим потом, диафрагма начала разжижаться. Прощальные стихи.
В марте вышла «Круговая павана». Последовали рецензии: «…Приятные и ясные стихи, выдержанные в традиции…»; «…мистер Эндерби не утратил ни одного из прежних дарований; жаль, однако, что мы не видим никаких признаков новых талантов, новых направлений. Состряпано блюдо талантливо, только очень похоже на то, что уже предлагалось…»; «…со вздохом вспоминаешь о совершенстве старой лирики. С облегчением обращаешься к произведениям двух молодых оксфордских поэтов…». И одна, безусловно принадлежавшая Роуклиффу: «Мистеру Эндерби наверняка хватит чувства реальности, чтобы не сожалеть об утрате поэтического дара. Он не вечен, а у мистера Эндерби присутствовал дольше, чем в большинстве случаев. Многие его современники уже предпочли достойное молчание, оставив памятные достижения, и можно с уверенностью предположить, что после этого огорчительного, как и следовало ожидать, тома мистер Эндерби вступит в их братство монахов-отшельников…» В «Феме», естественно, отзыва не было.
Апрель Эндерби провел в мрачности из-за болей в груди. И теперь, в мае, в нынешнем месяце, три дня назад решил обратиться к врачу. После простукивания и прослушивания врач более или менее пришел к выводу, что все на самом деле в порядке, но, чтобы обезопаситься, направил Эндерби в больницу на рентген. Однако до того, слыша в ушах «все в порядке», он уселся у себя на теплом чердаке, составляя перечень возможных способов смерти: Вскрытие вен в горячей ванне Передозировка снотворного Повеситься на багете для картин в столовой Прыгнуть в море с мола.
Начиналось лето, и в доме миссис Бамбер собралось немалое количество ранних летних постояльцев, насколько можно было судить по шуму, по кучам галопирующих детей, за которыми неумело следили шикавшие, но беспечные молодые родители. Нехорошо было бы, рассуждал Эндерби, превращать самоубийство в публичное предприятие. Нельзя начинать утро на отдыхе с обнаружения трупа, висящего с высунутым языком в кукурузных хлопьях, оставшихся со вчерашнего вечера, или насмерть заснувшего в ванной в красных холодных чернилах. Прыжок с мола в конце главной пристани тоже, конечно, чересчур публичен и всем неприятен, а какой-нибудь пловец, которому уже наскучил отдых, может слишком быстро приплескаться на помощь. Лучше передозировка: чисто, тихо, чисто, тихо, там-там-там, там-там-там, и заснешь. Кингсли[119], христианин весельчак.
Эндерби, стоик нехристианин, взобрался по ступенькам цвета ванили дома № 17 на Баттеруорт-авеню. Парадная дверь стояла открытой, на вешалке для шляп висели ведерки с лопатками, темный водорослевый вестибюль целиком пропах ногами и песком. Все постояльцы ушли, возможно, на «Сына Инопланетного Зверя», но миссис Бамбер пела на кухне, веселая вдова трамвайного вагоновожатого; песня пахла устрицами и красным портвейном. Поднимаясь по лестнице, Эндерби внезапно застыл на месте от строки, по его мнению, из «Улисса», которая ему со смертельной дозой в кармане казалась самой что ни на есть ядовитой строкой (хотя это в действительности была не строка, просто, насколько припоминалось, кусочек внутреннего монолога Блума[120]), самой что ни на есть чреватой сожаленьем строкой, какую он вообще в жизни слышал:
…И больше не лежать в ее теплой постели.
Эндерби тряхнул головой, где толпились образы, образы, которые он больше не может преобразовывать в слова и рифмы: лошади ждут команды стартера, палатка с шампанским, солнце на затылке, омлет из сотни яиц, бутылка коньяку «Наполеон», жизнь.
…И больше не лежать в ее теплой постели.
Он поднялся выше, взобрался на самый верх, где от солнца его отделяла лишь крыша. Чердак, словно море, был согрет солнцем. Вошел и сел на кровать, тяжело дыша после подъема. Тут живший собственной жизнью желудок решил, что он голоден, поэтому Эндерби поставил разогреваться на газовой плитке простую похлебку. А пока она булькала, вертел и вертел купленную бутылочку аспирина порядочного размера: он читал или слышал, что сотни должно хватить. Миссис Бамбер наверняка эффективно управится с неожиданным трупом: ланкаширская женщина, а народ в Ланкашире скорей радуется смертям. Так или иначе, труп будет лежать чистый, с отвисшей челюстью, как бы изумляясь, что умер, между простынями. (Эндерби напомнил себе обязательно произвести по возможности полное очищение организма перед его превращением в труп.) Отдыхающие не будут обеспокоены; старший констебль и секретарь городского совета не захотят публичной огласки; все будет сделано тихо ночью, утром же зашуршат высыпаемые на тарелку кукурузные хлопья. И вот Эндерби сел как бы даже с аппетитом за тайную вечерю, скудное, но вкусное причастие. Он испытывал возбуждение, словно после ужина шел смотреть фильм, о котором все говорили, а критики очень хвалили.
Эндерби был в пижаме. Было еще светло, майский вечер, и у него возникло мимолетное впечатление, будто он вновь ребенок, которого отослали в постель, тогда как дневная жизнь еще сильно пульсирует без него. Он вымыл ноги, вычистил вставные зубы, сполоснул немногочисленные горшки и миски, съел кусочек шоколада, пролежавший несколько недель, налил воды из кувшина на мойке в чистую молочную бутылку. (Высокого стакана не имелось, а надо было запить аспирин большим хорошим глотком.) Потом вытащил из пузырька ватку, после чего таблетки врассыпную задребезжали, пузырек с аспирином начал драматизироваться сам по себе, ловя вечерний свет под разными углами, становясь почти подобным Граалю, так что державшая его рука задрожала. Эндерби понес его к кровати, и он издавал всю дорогу сухие и легкие кастаньетные звуки. С постели, куда Эндерби уже лег, можно было взглянуть вниз на задний двор миссис Бамбер. Он жадно углубился в него, щурясь в поисках символов жизни, но там оказался лишь мусорный ящик, картонная коробка с золой, росшие в плиточных трещинах одуванчики, старый велосипед, выброшенный сыном миссис Бамбер, Томом. Дальше шли трехэтажные дома с сохнувшими на подоконниках купальными костюмами, еще дальше море, над всем первоцветное небо.
— Ну, — вслух сказал Эндерби.
И трясущейся рукой вытряс трясущуюся горсть аспирина. Запустил в рот белые зерна, словно скармливал пенни пугалу-автомату. Выпил воды из молочной бутылки, по-прежнему дрожа, как укушенный аспидом. Аспид, аспирин. Есть связь?
Аспид, распираемый смертью.
Он прикончил бутылочку, проглотив еще шесть-семь горстей, и старательно вымыл руки. Потом лег со вздохом. Теперь нечего делать, лишь ждать. Он совершил самоубийство. Покончил с собой. Самоубийство из всех грехов самый предосудительный, ибо самый трусливый. Какое наказание ждет самоубийцу? Будь тут сейчас Роуклифф, он щедро процитировал бы из «Inferno»[121] того самого автора, который внес вклад в итальянское искусство. Эндерби удалось смутно вспомнить, что место самоубийц — Нижний Ад, Второй Пояс, между теми, кто чинит насилье над ближним, и теми, кто оскорбляет насилием Бога, искусство и естество. В этом самом Третьем Поясе по праву окажется Роуклифф, может, уже оказался. Все это, по мнению Эндерби, Львиные грехи. Закрыв глаза, он вполне четко увидел кровоточащие деревья, которые были самоубийцами, и носившихся вокруг гарпий, стрекотавших сухими крыльями, производя усиленный звук встряхиваемой бутылочки с аспирином. И нахмурился. Получается очень несправедливо. В конце концов, он избрал Второй пояс во избежание Третьего, и все-таки оба греха приткнулись друг к другу в одном круглом ломте Нижнего Ада.
С бесконечным тщанием и деликатностью день червем полз в континууме постоянно темневшей серости. Наручные часы здраво тикали, чересчур энергичный слуга, который объявит о смерти столь же хладнокровно, как о нынешнем числе и поданном завтраке. Эндерби начинал чувствовать колоссальную усталость и слышать в ушах громкий гул.
Звонко пукнули фанфары, космически просвистела спущенная в уборной вода. Тьма перед глазами резалась черным хлебом на один грубый кусок за другим, прямо до горбушки буханки. Потом медленно завертелась, с каждым витком светлея, пока не стала слепящей, как солнце. Эндерби признал непреодолимо трудной попытку сдвинуть одеяло, руки, веки. Круг треснул с невыносимым сиянием, и Эндерби потянуло как бы на канате, дружелюбно, однако с какими-то архангельскими восклицаниями, к некоему скрытому невыразимому Присутствию. Вдруг это Присутствие, сперва добродушно казавшееся простым интеллектуальным фактом, взорвалось, в последний раз звучно ударив во все органы чувств, и Эндерби попятился.
И вот она, манит его, пукая — пррррррп — как десять тысяч землетрясений, рыгая — аррррп и ыг — как миллион вулканов, под ревущий одобрительный смех всей вселенной. Трясет перед ним обвисшими, как лупа, сиськами, бесконечными змейками вытаскивает из черных зубов шкурку бекона, забрасывает его катышками ушной серы, сморкается в его сторону зелеными соплями. Престолы возопили, силы обессилели. Запахи душили Эндерби: сероводород, немытые подмышки, дурной запах изо рта, экскременты, застоявшаяся моча, тухлое мясо — все лезло в рот, в ноздри хлюпавшими комками.
— Помогите, — попытался он крикнуть. — Помогите помогите помогите. — Упал, пополз с криками: — Помогите помогите. — Чернота, представляя собой смех и грязь, смыкалась над ним. Он издал один последний вопль, перед тем как в нее погрузиться.
— И, — сказал психиатр, доктор Гринслейд, — больше таких попыток мы делать не будем, правда? Потому что, как мы теперь видим, это все доставляет лишь массу и массу тревог и хлопот другим людям. — Он сиял, моложавый и толстый мужчина в белом, не слишком чистом халате, с нездоровой комплекцией сладкоежки. — Это, к примеру, не пошло на пользу сердцу нашей бедной старушки домохозяйки, правда? Ей пришлось бежать вверх по лестнице, а потом вниз по лестнице… — пальцы для иллюстрации пробежали в воздухе вверх-и-вниз, — и к прибытию, наконец, «скорой» она была в высшей степени возбуждена. Мы должны о других помнить, правда? Мир создан не только для нас, и больше ни для кого.
Эндерби содрогнулся от нянюшкиной подстановки множественного числа первого лица вместо единственного числа второго.
— Все умершие хлопоты причиняют, — буркнул он. — Это неизбежно.
— Ах, — надул губы доктор Гринслейд, — вы ведь не умирали. Умирая нормальным приличным путем, люди доставляют нормальные приличные досужие хлопоты, никому не вредящие. Вас же просто застали более или менее в процессе отплытия. Что повлекло за собой суматоху и хлопоты для всех и каждого, особенно для бедной старушки домохозяйки. Кроме того… — он подался вперед и притих, — в вашем случае стоит не просто вопрос о прямом умирании, правда? Это была… — шепнул он грязные слова, — попытка самоубийства.
Эндерби повесил голову ожидаемым стадным жестом. И сказал:
— Жалко, что я все испортил. Не знаю, что на меня нашло. Ну, в каком-то смысле знаю, конечно, только если бы я был смелым, если б добился, по-моему, мог бы прямо отплыть, если вы понимаете, что я имею в виду. Я имею в виду, меня попросту напугало видение Ада. Бесы и прочее. Нереально.
Доктор Гринслейд сдержанно потер руки.
— Я, — сказал он, — впереди вижу много приятного. Хотя, к сожалению, не для меня. Тем не менее Уопеншо мне сообщил. Место очаровательное, — мечтательно доложил он, — особенно в такое время года. Вам понравится.
— Где? — подозрительно спросил Эндерби. — Что? — Доктор Гринслейд смахивал на какого-то персонажа Диккенса, рассуждающего о могиле любимого идиота ребенка. — Я думал, меня отпустят.
— О господи, нет, — возразил шокированный доктор Гринслейд. — Знаете, здоровые люди не совершают попыток самоубийства. Хладнокровных и целенаправленных. Понимаете, вы все это спланировали. Мне Престон Хоукс сказал, что спланировали. Это не просто безумный импульс.
— Нет, — смело подтвердил Эндерби. — Это был разумный поступок. Я прекрасно понимал, что делаю, и приведу вам прекрасные и разумные основания. — И кислотно рыгнул: греееееех. И заметил: — Чертовски поганая еда в больнице.
— В Флитчли превосходно кормят, — размечтался доктор Гринслейд. — Там все превосходное. Чудесные площадки для прогулок. Настольный теннис. Телевизор. Библиотека успокоительных книг. Компания конгениальная. Уходить не захочется.
— Слушайте, — спокойно сказал Эндерби, — я не собираюсь, понятно? Вы не вправе держать меня здесь или куда-нибудь отсылать. Я в идеальном порядке, понятно? Требую освобождения.
— А теперь, — грубо оборвал его доктор Гринслейд, превращаясь из няньки в школьного учителя, — давайте-ка полностью проясним пару вещей, хорошо? В нашей стране действуют определенные законы относительно психических расстройств, ограничительные законы, законы об освидетельствовании и так далее. К вашему случаю эти законы уже применимы. Мы не можем позволить, чтобы по всей стране расхаживали люди, пытающиеся покончить с собой. — Эндерби закрыл глаза и увидел Англию, кишевшую, как бревно кишит древесной тлей, странствующими самоубийцами. — Вы опасны для себя самого, — заключил доктор Гринслейд, — и опасны для общества. Мужчина, не уважающий свою жизнь, вряд ли станет уважать чужую. Логично, не так ли?
— Нет, — с готовностью опроверг Эндерби.
— Ну хорошо, — саркастически сказал доктор Гринслейд, — вы, конечно, большой специалист в логике.
— Ни на что не претендую, — громко провозгласил Эндерби, — кроме того, что я поэт, которого покинуло вдохновение. Я — пустая яичная скорлупа.
— Вы, — сурово объявил доктор Гринслейд, — человек образованный и культурный, способный приносить колоссальную пользу обществу. То есть когда снова придете в себя. Пустая яичная скорлупа, надо же, — хмыкнул он. И чуть ли не ухмыльнулся: — Поэты. Те времена прошли, романтические времена с широко распахнутыми глазами. Мы живем теперь в реалистическом веке, — сказал он. — Наука делает гигантские шаги. Что касается поэтов, — с неожиданной интимностью пробормотал он, — знал я однажды поэта. Симпатичный приличный парень, не особенно высокого о себе мнения. Тоже писал очень милые стихи, не слишком непонятные. — И глянул на Эндерби так, будто стихи Эндерби были одновременно немилыми и невразумительными. — Он, — продолжал доктор Гринслейд, — не пользовался вашими преимуществами. Ни личного дохода, ни уютной квартирки на приморском курорте. У него была жена, семья, и он не стыдился ради них работать. Писал свои стихи в выходные. — И кивнул Эндерби, ежедневному поэту. — И не было в нем ничего ненормального, вообще ничего. Он не прогуливался с крабом на поводке, не женился на родной сестре, не ел перец перед тем, как выпить кларета. Был достойным семейным мужчиной, которого никто и не принял бы за поэта. — Эндерби испуганно застонал. — И, — добавил доктор Гринслейд, — один его стих есть во всех антологиях.
Эндерби сдержал громкий вой. И спросил:
— Если он так нормален, что у вас с ним было общего?
— Знакомство, — с грандиозным триумфом улыбнулся доктор Гринслейд, — чисто светское. Ну, — сказал он, взглянув на часы над головой Эндерби, — вам лучше вернуться в палату. — Эндерби встал. В больничной пижаме, в халате, в шлепанцах, он себя чувствовал серым ссохшимся нищим. Прошаркал из кардиографического кабинета в коридор, помедлил в нерешительности перед лестницей с уведомлением ВЫХОДА НЕТ, вспомнил, что одежда его заперта, и, сдавшись, поплелся в палату. Его привезли туда отсыпаться после промыванья желудка в отделении «Скорой помощи», два дня заставили лежать голодным в каком-то подобии детской кроватки с железными решетками по бокам, а теперь позволили мрачно супиться в халате в палате. Когда коллега-пациент спрашивал: «Чего с тобой стряслось, приятель?» — он, по указанию палатной сестры, отвечал: «Ацетилсалициловое отравление». Впрочем, грубые люди с впечатляюще наглядными заболеваниями знали гораздо больше. Этот самый тип собирался себя порешить. Пока Эндерби, сунув руки в карманы халата, наклонялся к своей койке (слева стригущий лишай, справа перелом бедра), карлик-рабочий подскочил на костылях.
— Эй, — сказал карлик.
— Да? — сказал Эндерби.
Карлик через пищевод прочистил носоглотку и спросил заговорщицки:
— На тебя трюкач на велосипеде наехал, да? Видел я, как он явился. Целиком по тебе покатался, да?
— Совершенно верно, — подтвердил Эндерби.
— По-моему, против этого закон должен быть. Вытаскивают секреты прямо из черепушки. Я так понимаю, недостойный способ. На меня один раз наехал. За что, знаешь?
— Нет, — сказал Эндерби. Карлик подпрыгнул поближе с сияющим взором. И тихо признался:
— Понимаешь, жена с ребятишками в кино пошли. Мне делать было нечего, по телику ничего толкового, вымыл посуду от ужина, в кухне прибрался. Газеты еще почитал, тоже ничего хорошего, одни убийства и тому подобное, да совещания на высшем уровне. Так или иначе, знаешь что у меня было в кармане комбинезона?
— Нет, — сказал Эндерби.
— Вот такая вот большая шайба, — объявил карлик. — Не пойму, как она там очутилась, только была. Большая, — подчеркивал он, для иллюстрации составив кружок большим и указательным пальцем. — Шайба, знаешь. Не шайба, которой играют, а шайба, куда болт вставляется. — И указательным пальцем другой руки точно изобразил, как это делается. — Понимаешь? — переспросил он.
— Да, — сказал Эндерби.
Карлик совсем близко придвинулся, неуклюжий на костылях, и как бы собрался съесть ухо Эндерби.
— И я его туда сунул, — сообщил он. — Жена, понимаешь, ушла, больше нечего делать. И отлично вошел, не поверишь. Вошел, так или иначе, а потом знаешь, что было?
— Нет, — сказал Эндерби.
— Обратно не вышел, — объявил карлик с ожившим ужасом в глазах. — Застрял, не вылазит. Каким я дураком чертовым, должно быть, выглядел в глазах кота, когда тот влез в окошко. Знаешь, вечер жаркий, окно открыто. И тут я стою со своим причиндалом, засунутым в шайбу, и он оттуда не вылазит. Все перепробовал — и под холодным краном держал, пилкой пробовал распилить, ни черта не выходит. Тут жена возвращается из кино, видит, что я наделал, ребятишек отправила прямо наверх. Плохо уже, что кот видел, тем более нехорошо, чтоб ребята узнали. Знаешь, что она сделала?
— Нет, — сказал Эндерби.
— «Скорую» вызвала, меня в больницу забрали. Хотя не в эту. Мы в тот раз жили где-то в другом месте. Ну, там старались, старались, все бестолку. Все перепробовали. Знаешь, что в конце концов пришлось сделать?
— Нет, — сказал Эндерби.
— За пожарной командой послать. Ни словечком не вру, пришлось. Честью перед Богом клянусь, послали за пожарной командой. Знаешь, что пожарная команда сделала?
— Нет, — сказал Эндерби.
— Специальную пилу привезла для распила металла и воду без конца подавала из шланга. Зачем, знаешь?
— Чтоб остужать, — сказал Эндерби.
— Точно, — подтвердил карлик. — Не многие дали бы верный ответ, в отличие от тебя. Чтоб остужать. Так или иначе, справились и тогда предложили мне встретиться с трюкачом, с которым ты встречался. Хоть и ничего хорошего. — Он помрачнел.
— Поэтому ты снова здесь? — спросил Эндерби.
— Не, — с укоризной ответил карлик-рабочий. — Ногу на этот раз сломал на работе. Хотя всегда чего-нибудь найдется, правда?
В этот миг Эндерби пришел к мнению, что с определенной долей помощи и поддержки предположительно можно считать возможным возможное возникновенье желания с некоторыми неизбежными оговорками жить дальше. Он проснулся средь ночи, смеясь над какой-то сонной шуткой. Сестре пришлось дать ему успокоительное.
Флитчли, сплошь засыпанный розовым снегом яблоневого цвета, кукующий (соответственно) эхом, зеленый, тихий тишиной, которую только подчеркивал пинг-понг настольного тенниса, Флитчли полностью соответствовал описанию доктора Гринслейда. Несколько недель спустя Эндерби сидел на гремевшей птицами террасе, читал детскую безобидную книжку о насилии («…Чинк с зловещей восточной улыбкой на непроницаемом желтом лице выдернул нож из спины своего мертвого компаньона и швырнул его прямо в полковника Билла. Билл нырнул, слыша, как дьявольское оружие вонзилось в дверь. Нырнул как раз вовремя. „Ну, — сказал он с холодной улыбкой на чисто выбритом лице, — пожалуй, на один день с меня твоих предательских выходок хватит, Джонни-китаец“. И пошел на Чинка, забормотавшего на диком родном языке, очевидно, мольбу о пощаде…»). В помещении для дневного времяпрепровождения звучала веселая музыка столов, накрываемых к полднику. За низким заборчиком за работой склонялся садовник. Пациенты, коллеги Эндерби, гуляли на площадке или, вроде него самого, сидели, отдыхали за успокоительной литературой. Эндерби время от времени клал книгу на колени, закрывал глаза и тихо говорил себе много раз: «Меня зовут Эндерби-Хогг, меня зовут Эндерби-Хогг». Элемент процесса исцеления, осторожного изменения личности. Хогг — девичья фамилия его матери, Эндерби вскоре умолкнет, она станет единственным его именем.
Прозвонил звонок к полднику, из дневной палаты по радио утонченно грянули новости. Эндерби-Хогг сел за стол на шестерых, сперва обменявшись рукопожатиями с мистером Барнеби. Мистер Барнеби, как собака, настойчиво подавал лапу всем в любое время дня, а иногда по ночам мягко будил всех и каждого с той же целью. У него было приятное морщинистое лицо, и он, вроде Эндерби, который скоро исчезнет, был чем-то вроде поэта. Написал стихи, взяв за начало строчку главного врача:
Ты у меня безусловно получишь без
Всяких вопросов, и нечего зыркать.
Жена тебя любит не больше, чем дитя небес,
Черный ворон на дереве, или вон та банка с дыркой
Фирмы «Хейнц», содержавшая ранее сою,
Или пес управляющего, который так жалобно воет.
За тем же столом сидел мистер Трилл, одним из симптомов психического расстройства которого служила способность назвать победителя любой крупной скачки за последние шестьдесят лет. Это был мужчина благородной наружности, клявшийся, что ненавидит скачки. И сейчас Эндерби-Хогг бросил ему в качестве автоматического приветствия:
— Приз на тысячу гиней, 1910.
Мистер Трилл поднял от супа скорбный взгляд и ответил:
— Моргунчик, владелец Астор, тренер У. Во, жокей Лайнэм. Начальная ставка пять к двум.
Был еще мистер Бичем, мастер-водопроводчик, который по предписанию психиатров целыми днями рисовал картины: черные змеи, красное убийство, его жена с тремя головами. Страховой агент в темных очках, мистер Шап, с черной дырой вместо рта, ничего не говорил и ничего не делал, только все время визжал одно слово: ПАСТА. Наконец, мистер Киллик, который вполголоса проповедовал птицам и смахивал на преуспевающего мясника.
Все шестеро из этой компании выхлебали суп, после чего две веселые сестры с сияющими лицами подали им куски пирога с мясом и ложкой наложили картошку. Были у них ложки, вилки, но не ножи. Мясо жевалось приятно и тихо, за исключением одного случая, когда мужчина в халате за другим столом крикнул в потолок:
— Топи ее, Номер Один!
Его быстро успокоила одна из сестер, простая ланкаширская девушка с сильным чувством юмора.
— Быстро топи мясной пирог, дружочек, — приказала она. — Пудинг с патокой прямо по курсу.
Эндерби-Хогг посмеялся вместе с остальными над типично ланкаширской шуткой. Вкатили пудинг с патокой, с горчицей по желанию, и мистер Киллик, проголодавшийся после утренней проповеди птицам, съел три порции. Одни после еды снова легли в койки, тогда как Эндерби-Хогг и другие уселись в солярии. Денег Эндерби-Хогг не имел, но некий неведомый благотворительный фонд по просьбе больничного эконома снабжал его достаточным количеством сигарет. Сестра прошлась со спичками, давая прикурить курильщикам: собственных спичек ни одному пациенту не дозволялось с тех пор, как иеговистски настроенный больной общим параличом обозвал Флитчли Содомом и запалил.
Спокойно покурив, лениво и бессвязно поговорив, Эндерби-Хогг пошел в уборную. В маленькие кабинки без дверей можно было заглядывать из коридора сквозь толстую стеклянную стену: даже здесь одиночество не ощущалось. После образцово здорового испражнения Эндерби-Хогг направился в палату, которую делил с одиннадцатью другими пациентами, и лежал там на койке до вызова на дневную беседу с доктором Уопеншо. Дочитал свою детскую книжку. («…И, — усмехнулся полковник Билл, — несмотря на весь риск и опасности, я с радостью еще раз пережил бы такое веселое славное приключение». Но, толкнув дроссель, после чего горючее воспламенилось с силой и сладостью, он вовсе не думал, что его ждет еще более волнующее приключение. Об этом приключении, ребята, мы расскажем в следующей истории — девяносто седьмой! — о полковнике Билле и верном Спайке.) Эндерби-Хогг без лишнего волнения надеялся эту историю прочитать.
В три часа улыбчивая сестра пригласила его к доктору Уопеншо. Доктор Уопеншо сказал:
— А, привет, старина. Как дела? Славно, славно, — больше всего на свете смахивая на полковника Билла или на его создателя. Доктор Уопеншо был крупным мужчиной с избыточным жирком, свидетельствовавшим, подобно медалям, о прежних триумфах в регби, с большими ногами, усами, голосом — рождественским пудингом. Но это был умный, оригинальный психиатр. — Садитесь, — предложил он. — Закуривайте, если хотите. — Эндерби-Хогг сел с робкой улыбкой. Он обожал доктора Уопеншо.
— Эндерби-Хогг, Эндерби-Хогг, — молвил доктор Уопеншо, как бы начав детский стишок. На столе перед ним лежала открытая пухлая папка. — Эндерби-Хогг. Немножечко громоздко, правда? По-моему, Эндерби можно отбросить, как думаете? Разумеется, если хотите, держите его под рукой про запас. Как вам нравится Хогг?
— О, отлично, — сказал Хогг. — Абсолютно годится.
— С чем ассоциируется? Свиньи?[122] Грязь? — улыбался он. — Обжорство? — Доктор Уопеншо добродушно хрюкнул.
— Нет, конечно, — возразил Хогг, тоже с улыбкой. — Розы. Летняя лужайка. Сладко пахнущая женщина за пианино. Серебряный голос. Дымка от Пробегающей Тучки.
— Прекрасно, — заключил доктор Уопеншо. — Поистине замечательно. — Откинулся в вертящемся кресле, покачиваясь по-мальчишески из стороны в сторону, ласково глядя на Хогга. — И борода очень кстати, — признал он. — За пару недель хорошо отрастет. О да, я помню про очки. В четверг пойдете к окулисту.
— Большое вам спасибо, — поблагодарил Хогг.
— Не благодарите меня, дорогой друг, — сказал доктор Уопеншо. — В конце концов, мы для этого здесь, правда? Чтоб помогать. — Слезы навернулись на глаза Хогга. — Ну, — продолжал доктор Уопеншо, — я вам уже объяснял, что именно и зачем мы пытаемся сделать. Можете пересказать, — улыбнулся он, — собственными словами?
— Эндерби, — начал Хогг, — было имя из затянувшегося отрочества. Признаки отрочества были сильно развитыми и, казалось, останутся навсегда. Например, одержимость поэзией. Мастурбация, стремление запереться в уборной, бунт против общества и религии.
— Прекрасно, — одобрил доктор Уопеншо.
— Поэзия была цветом отрочества, — рассказывал Хогг. — Стихи все равно остаются хорошими, кое-какие, но это был продукт отрочества. Я буду с определенной гордостью оглядываться на достижения Эндерби. Но жизнь надо прожить.
— Разумеется, — подтвердил доктор Уопеншо, — и вы ее проживете. Больше того, проживете ее с наслаждением. Ну, позвольте теперь сообщить, что дальше с вами будет. Через месяц, — а может, и меньше, если будете и впредь прогрессировать так замечательно, — мы вас отправим на нашу сельскохозяйственную станцию в Снорторне. Знаете, это на самом деле дом для выздоравливающих, где вы будете выполнять небольшую легкую работу, — исключительно по возможности, не больше, — вести очень простую приятную жизнь в обществе, в прекрасной обстановке. Снорторп, — пояснил доктор Уопеншо, — маленький городок на реке. Летом туда съезжаются отдыхающие; лебеди, катанье на лодках, прелестные пабы. Вам понравится. Вашей группе, — разумеется, под присмотром, если это действительно можно назвать присмотром, — будет позволено ходить в пабы, на танцы, в кино. В самом доме проводятся соревнованья по шахматам и по пению. Раз в неделю, — улыбнулся доктор Уопеншо, — я сам с удовольствием приезжаю и возглавляю певческий конкурс. Вам понравится, правда?
— О да, — выдохнул Хогг.
— Таким образом, — заключил доктор Уопеншо, — вы постепенно привыкнете к жизни в обществе. Знаете, будете даже с женщинами встречаться, — улыбнулся он. — Понимаете, в один прекрасный день. Жду от вас реального шага к браку. Эндерби наломал тут дров, правда? Ну, теперь все кончено. Аннуляция будет получена, как мне сказали, довольно легко.
— Я даже ее имя не помню, — нахмурился Хогг.
— Не тревожьтесь об этом, — посоветовал доктор Уопеншо. — Это дело Эндерби, правда? В свое время вспомните. Больше того, с удовольствием вспомните. — Хогг робко, как бы в предвкушении, улыбнулся. — Ну, относительно будущего в целом, мне не хочется, чтобы вы о нем думали в данный момент. Не должно быть проблем с получением по-настоящему конгениальной работы, — знаете, у нас есть департамент, который все это устраивает, и весьма эффективно. В данный момент ваше дело — с радостью становиться той самой новой личностью, которую мы пытаемся сотворить. В конце концов, это очень забавно, правда? Я из вас очень успешно все вышибу и хочу, чтоб вы мне помогали. В конце концов, — улыбнулся он, — мы с вами очень сблизились, правда, за несколько последних недель? Пережили вместе настоящее приключение, и я наслаждался каждой его минутой.
— О, я тоже, — с жаром сказал Хогг. — И поистине жутко признателен.
— Ну, поистине жутко милые ваши слова, — сказал доктор Уопеншо. — Только знаете, вы оказали нам бесконечную помощь. — Еще раз улыбнулся, стал искренне деловым и серьезным. — Я вас приму, — сказал он, заглянув в дневник, — утром в пятницу. Идите теперь, пейте чай, или что там еще, дайте мне встретиться с очередной жертвой. — И добродушно вздохнул. — Работа, работа, работа. — И покачал головой. — Без конца. Ну, вперед, — усмехнулся он. Хогг усмехнулся в ответ и помчался вперед.
К чаю у них были сандвичи «Мармит», сандвичи с рыбной пастой (мистер Шап крикнул ПАСТА с такой изощренной уместностью, что все посмеялись), разноцветное печенье и маленький плум-пудинг на каждый стол для шести человек. После чая Хогг гулял на площадках, где изумил мистера Киллика, прошептав ласточкам, которые клевали хлеб за низким заборчиком:
— Ну, птички, будьте добры и ласковы друг с другом и возлюбите Бога, Который вас всех сотворил. Он был птичкой, такой же, как вы.
Вернувшись в солнечный солярий, Хогг нашел мистера Барнеби, триумфально закончившего очередной станс своей Оды главному врачу. Он прочел его вслух с большим чувством, сперва обменявшись с Хоггом сердечными рукопожатиями:
Я заметил тебя ночью в поле,
Ты сшибал на ходу траву большой палкой,
Но немая трава не покорялась твоей злобной воле,
Твоим домогательствам жалким.
В результате фарфоровая безделушка с полки
Свалится тебе на голову
и разнесет вонючую личность в осколки.
На обед была рыба и рисовый пудинг с кишмишем. Мистер Бичем киноварными после дневной работы над крупным символическим полотном руками медленно повытаскивал из своей порции весь кишмиш и разложил на тарелке в виде простого гештальта. Телевизор после обеда: любительский бокс, так возбудивший двух пациентов, что сестра была вынуждена переключиться на другой канал. Другой канал показывал простое моралите о добре и зле на Западе Северной Америки в 1860-х годах. Его время от времени прерывали астенические женщины, которые демонстрировали стиральные машины, хотя некоторые пациенты явно не видели тут перебивок, считая скорей этих женщин участниками интриги. Темой была интеграция: построение нового гуманного общества под яркой непоколебимой звездой шерифа. Хогг частенько кивал, принимая все это (завоевание новых территорий, смерть антиобщественного злодея) за аллегорию своей собственной переориентации.
Вершина лета в Снорторпе. Лодки напрокат у моста, у моста отель под названием «Белый олень», весьма предпочитаемый летними приезжими. Выпивавшие радостно щурились в лунном свете на террасе. Собаки весело тявкали, преследуемые детьми. Утки и лебеди, сытые до отвала, балованные. Ивы. Старый замок высоко далеко за рекой.
Плотно сбитая кучка мужчин шагала в сопровождении свободно расположенной, но явно присматривавшей за ними команды в сторону городка с выжженных солнцем полей сельскохозяйственной станции. Мужчины столь же загорелые, ладные, как приезжие в лодках; каждый с каким-нибудь инструментом, мотыгой или вилами. Остановились у моста по радостной команде вожатого.
— Лады, — крикнул он. — Пять минут на шабаш. Старик Чарли вот тут говорит, ему камень в башмак попал. — Мистер Пикок был загорелым достойным мужчиной, коренастым, державшимся прямо; относился к своим подопечным как к меньшим братьям. Старик Чарли сел на парапет, и мистер Пикок помог ему снять ботинок в дорожной пыли.
— Засмолишь? — предложил Пигги Хогг (как его шутливо прозвали)[123] своему компаньону. Боб Карент взял сигарету, благодарно кивнув. Вытащил дешевую цилиндрическую зажигалку, щелкнул пламенем, невидимым в дневном воздухе, сплошном пламени. Пигги Хогг наклонился, затянулся прикуренной сигаретой.
— Теперь тебе недолго, — заметил Боб Карент.
— Недолго, — подтвердил Пигги Хогг, глядя на длинный пологий ивовый берег. — Говорят, на будущей неделе. — Снял волокно табака с нижней губы. Губы обрамляла коричневая борода с горохом седины, загорелая кожа, очки в стальной оправе. Он чем-то смахивал на Хемингуэя, но на этом ассоциации с литературой заканчивались. Относительно хорошо выражающийся мужчина среднего возраста, явно не привыкший, но честно старавшийся работать руками, уважаемый товарищами по бригаде, полезный для написания писем. Кое-кто поговаривал о пустой трате образованного человека, лучше было б поставить его учеником бармена в отеле «Мидленд». Но Пигги Хогг знал — это не зря.
Пару ночей назад после того, как свет выключили, он надел наушники у кровати, отверг щелчком пластмассового настенного циферблата сперва «свет», потом «дом», сделал зарубку на третьем. Утомленный молодой человек рассказывал о Современной Поэзии: «…перед своим необъяснимым исчезновением Эндерби… заявил о себе как о хорошем второстепенном поэте, придерживающемся традиции… может быть, мало что мог сказать нашему поколению… более значительные произведения Джарвиса, Сайма, Казалета…» Слушал Хогг абсолютно без всякого интереса. Кого-то использовали и выбросили: Эндерби отделался лучше других: Хогга ждет место бармена. Больше того, он станет барменом, отличающимся от других, довольно своеобразным типом, выплескивающим над пенными пинтами случайные стихотворные строки. За словами и рифмами лежат ощущения. Придет для них время.
— Чего тебе говорил старый небесный летчик? — спросил Боб Карент.
— А? — рассеянно переспросил Пигги Хогг. — Ну, по-моему, он придал разумный смысл англиканской церкви. Своего рода общество. Без особых требований. Давал книжки какие-то почитать, да я, говорю, не из тех, кто чересчур много читает. Хотя согласен, если это доставит ему удовольствие.
— Я сам никогда не был особенно религиозным, — признался Боб Карент. — Отец мой был мыслитель, все мыслители атеисты. Помню, сильно всегда забавлялись по четвергам вечерами в былые времена. Знаешь, от пуза свинины и сидра, потом кто-нибудь упоминает про Вынужденную Необходимость, и спор начинается адский. Сидят все в центральной гостиной, знаешь, смерть Нельсона над пианино. — Боб Карент был очень худым мужчиной пятидесяти семи лет, рекламщиком на радио, оправлялся от шизофрении. — Кажется мне, — сказал он, — у людей тогда веры больше было. Сильней верили. Ну, по-моему, мой старик, просто старый невежественный мыслитель, больше верил, что Бога нет, чем кое-то из нынешних религиозных педрил верит, что Он есть. Смешной старый мир, — заключил он, как всегда заключал.
— О да, — подтвердил Пигги Хогг, — но небезынтересный.
После ленча начался крикетный матч между Домом и местной «Скорой помощью» Святого Иоанна. Пигги Хогга уговорили судить. Его всегда беспокоила блокировка мяча ногой, но он решил в каждом сомнительном случае, кроме чистого броска и приема, неизменно объявлять «нот аут»[124]. Песенный конкурс в тот вечер возглавлял доктор Уопеншо с пивом из столовой — две бутылки на каждого. Пигги Хогг руководил победившей командой. И побил в шахматы Альфреда Брисли.
— Молодцы тигры, — крикнул мистер Пикок. — У старика Чарли башмак без камней. (Старик Чарли беззубо ухмыльнулся.) Господь в небесах, и все в полном порядке, и так далее, и тому подобное. Веселей. Дайте-ка посмотреть, нынче суббота, правда? Говяжья солонина с толченой картошкой, со свеклой, потом пирог с патокой. Ладно, Пигги, старик, хватит слюни пускать в предвкушении. Ну, потопали.
Пигги Хогг взглянул вверх на крошечные облачка (ватные затычки небесных бутылочек с аспирином), вниз на согретые солнцем лодки на берегу, похожие на куриные тушки. Лебедь расправил архангельское крыло. Он забросил на плечо мотыгу, выплюнул бычок и потопал.
1
…Встань, последний поэт,
Ты болен оттого, что сидишь взаперти!
Пойди купи букет морозника за два су в переулке,
Совершишь заодно небольшую прогулку.
Смотри, как прекрасна погода, весь мир впереди (фр.).
2
Феллация — оральный секс. (Здесь и далее примеч. пер.)
3
Учение Пелагия (ок. 360 — после 418), христианского монаха из Британии, отрицает грешную природу человека, утверждает свободу воли, считает одним из главных условий спасения добрые дела.
4
Дедал — в греческой мифологии искуснейший мастер, строитель лабиринта, куда Минос его заключил вместе с сыном Икаром и откуда они спаслись, улетев с острова на сделанных Дедалом крыльях.
5
Пасифая — мать Минотавра, питавшая противоестественную страсть к быку.
6
«Бэбишам» — газированный грушевый сидр.
7
«Ах, мой милый Августин» (нем.).
8
Каналом в Англии называют Ла-Манш.
9
Мелтон — плотное сукно типа кастора.
10
Такую ассоциацию у Эндерби вызвало имя Пруденс, которое означает предусмотрительность, осторожность, благоразумие.
11
Хэзлит Уильям (1778–1830) — английский поэт, критик, автор известнейших иронических эпиграмм.
12
На Боу-стрит в Лондоне находится главный уголовный полицейский суд.
13
«Фойлз» — крупнейший лондонский книжный магазин.
14
«Бесплодная земля» — поэма Томаса Элиота (1888–1965); «1984» — роман Джорджа Оруэлла (1903–1950).
15
Дуодецимо — формат в двенадцатую долю листа.
16
Персонаж английского фольклора — Суини Тодд, безумный цирюльник, убивавший своих клиентов.
17
Сан-суси — беззаботный (фр.).
18
Поселившись в 1915 г. в Лондоне, Томас Элиот некоторое время работал в банке.
19
Профессия (фр.).
20
«In Memoriam» — поэма Альфреда Теннисона (1809–1892).
21
Смитфилд — лондонский оптовый рынок мяса и битой птицы.
22
Панч — персонаж английского кукольного театра, Петрушка.
23
Касса (фр.).
24
Лондонский вокзал Виктория.
25
Марианство — культ Богоматери у католиков.
26
Агнец Божий (лат.).
27
Макдональд Джеймс Рамсей (1866–1937) — премьер-министр Великобритании.
28
Непоследовательно (лат.).
29
Эндерби, оговорившись, назвал сэра Джорджа святым Георгием, победителем дракона, покровителем Англии.
30
Здесь: виновата (лат.).
31
Таннер — фунт (разг.).
32
Минестроне — итальянский куриный или мясной суп с овощами, травами и вермишелью.
33
Здесь: проснись, бодрствуй (нем.).
34
Ширы — центральные графства Англии, названия которых заканчиваются на — шир.
35
Сближение (фр.).
36
В результате непроизвольной перестановки звуков вместо названия поэмы Роберта Браунинга (1812–1889) «Пиппа приходит» («Pippa passes») получается «Папа писает» («Рарра pisses»).
37
Кавалер орденов «Крест Виктории» и «За отличную службу».
38
Эгзегеза — толкование Библии.
39
Серж — шерстяная костюмная ткань.
40
Боб — шиллинг (разг.).
41
«Литтлвудз» — крупная торгово-посылочная фирма.
42
«Панч» — еженедельный сатирико-юмористический журнал, основанный в 1841 г.
43
Wille — желание, воля; Vorstellungen — представление (нем.); так Эндерби обыгрывает название главного труда Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление».
44
Сволочь (фр., ит.).
45
Урия Хип — персонаж романа Ч. Диккенса «Домби и сын», интриган и лицемер.
46
Шелли Мэри (1797–1851), урожденная Годвин, жена поэта П.Б. Шелли, писательница.
47
Здесь: родство душ (греч.).
48
Свадебный (греч.).
49
Вторая профессия (фр.).
50
«Фортнум энд Мейсон» — универсальный магазин в Лондоне на Пикадилли, рассчитанный на богатых покупателей; «Арми энд Нейви сторз» — лондонский универмаг, первоначально обслуживавший преимущественно войсковых и морских офицеров.
51
«Паркер-Нолл» — фирма по производству мебели.
52
Войска связи.
53
Я тебя люблю (ит.).
54
Кьямпино — римский аэропорт.
55
Кассий, Каска — участники убийства Юлия Цезаря.
56
Любовь (ит.).
57
«Оставь надежду, всякий, кто сюда вошел» — цитата из «Божественной комедии» Данте Алигьери.
58
Цветы для синьоры (ит.).
59
Многие герои Генри Джеймса жили и умирали в Риме.
60
Стрега — ведьма (ит.).
61
— Американец?
— Англичанин.
— Американцы… почти одно и то же.
— Поэт (ит.).
62
Тиресий — легендарный слепой прорицатель из Фив, превращавшийся в женщину и обратно в мужчину.
63
Ричардс Айвор Армстронг (1893–1979) — английский литературный критик, автор «Принципов литературной критики».
64
Большое спасибо (ит.).
65
И одну вам, Данте (ит.).
66
Креветки (ит.).
67
Ваше здоровье… Детей побольше (ит.).
68
Мир (ит.).
69
Слишком (ит.).
70
Храм Весты (ит.).
71
Понятно (ит.).
72
Да (ит.).
73
Я… не хочу помогать (ит.).
74
Куда? (ит.)
75
Мост (ит.).
76
Клубный сандвич — три ломтика тоста с мясом и салатом.
77
Декольте (фр.).
78
Это телятина (ит.).
79
Да, синьор, телятина (ит.).
80
Неохлажденная (ит.).
81
Холодная (ит.).
82
Обелиск Цирка Нерона (исп.).
83
Клаф Артур Хью (1819–1861) — английский поэт, стихи которого полны скептицизма, порожденного безверием.
84
Римский мир — мир под властью Рима: система договорного распространения владычества Древнего Рима на завоеванные страны (лат.).
85
Гостиница (ит.).
86
Аква Сакра — святая вода (лат.), здесь: название минеральной воды.
87
«Поминки по Финнегану» — роман Джеймса Джойса.
88
Строка гимна: «никогда, никогда англичане не будут рабами».
89
Резонер (фр.).
90
Но вы действительно тут рассуждали почти как понтифик (ит.).
91
Плечи (фр.).
92
Да здравствует (ит.).
93
«Шеффилд вензди», «Тоттнем хотспер», «Кардифф-сити» — английские футбольные клубы.
94
Все хороши (ит.).
95
«Вест-Бромвич Альбион», «Манчестер юнайтед», «Вулвергемптон уондерерс» — английские футбольные клубы.
96
Очень красивая (ит.).
97
Лалланс — местный шотландский говор.
98
Комнату… Если можно (ит.).
99
Кровать (ит.).
100
БДМ — монограмма Богородицы Девы Марии.
101
Уборная (ит.).
102
Я голый, совсем голый (ит.).
103
Стеснения (фр.).
104
Бесстыжих флорентиек… разгуливающих с сосками напоказ — парафраз строк из «Божественной комедии» Данте Алигьери; «Чистилище», песнь 23.
105
Чистилище (ит.).
106
Двусущный Зверь (ит.) — Данте Алигьери, «Божественная комедия», «Чистилище», песнь 35.
107
Ариэль — в шекспировской романтической драме «Буря» дух воздуха, служивший магу Просперо.
108
БЕА — Британская европейская авиакомпания.
109
Он просит вас (прованс.).
110
В конце 26-й песни «Чистилища» поэт Арнальд Даньель отвечает Данте по-провансальски.
111
Хопкинс Джерард Мэнли (1844–1889) — английский поэт, священник-иезуит, оказавший большое влияние на поэзию XX века.
112
Иов, 3:3.
113
Портнихи (фр.).
114
Замолчите (ит.).
115
Экипаж (ит.).
116
БОЭК — государственная авиакомпания «Бритиш оверсиз эруэйз корпорейшн».
117
Благодарение Богу (лат.)… спасибо (ит.).
118
Горбалс — трущобный район Глазго.
119
Кингсли Чарльз (1819–1875) — английский писатель, священник.
120
Блум — герой романа Джеймса Джойса «Улисс».
121
«Ад» (ит.).
122
Хог — боров (англ.).
123
Пигги — поросенок (англ.).
124
В крикете отбивающий — бэтсмен, — блокировавший мяч ногой, чтобы тот не попал в калитку, выводится из игры; криком «нот аут» судья сообщает, что бэтсмен остается на поле.