Книга: Чешуя ангела
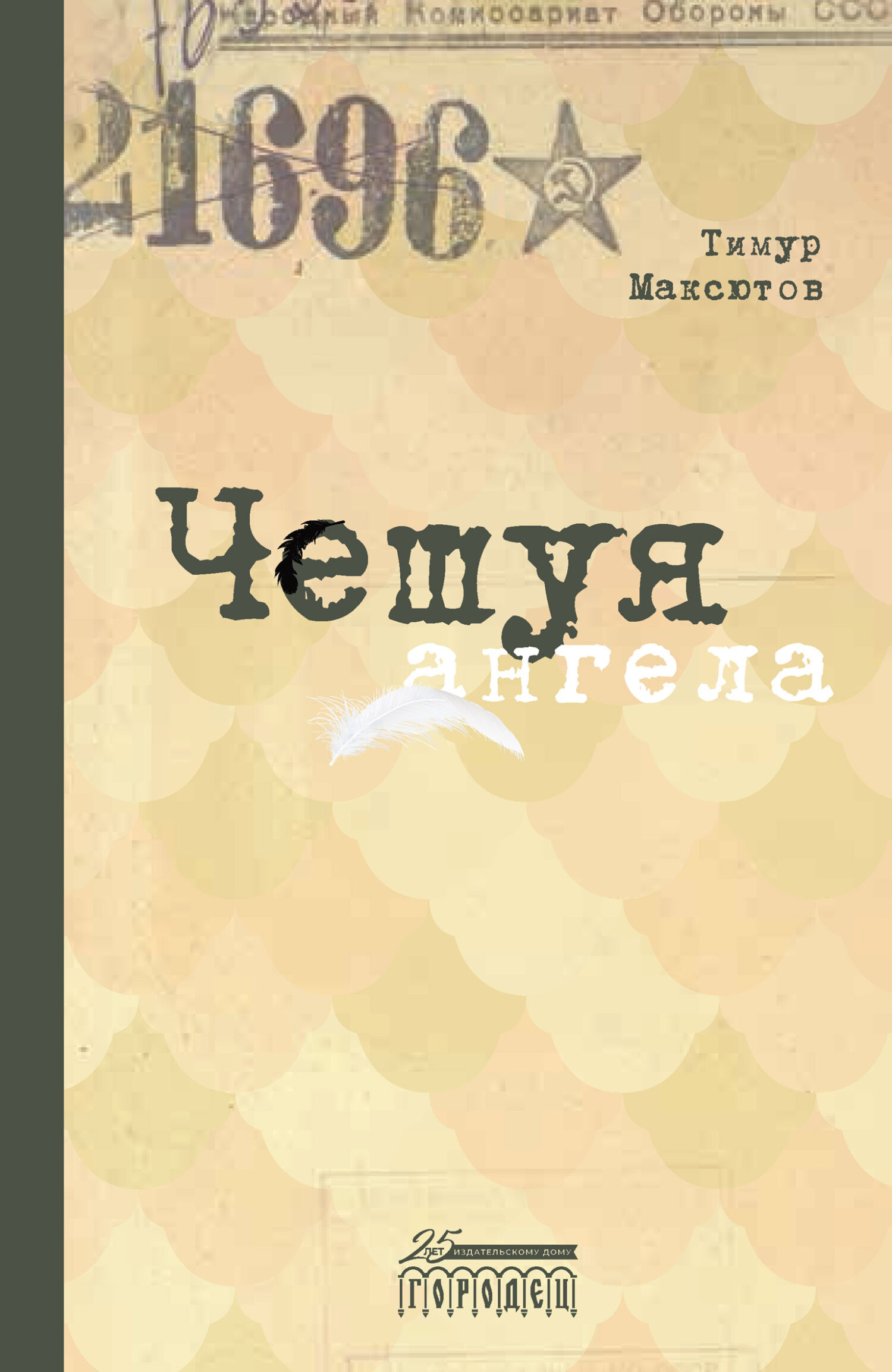
Чешуя ангела
Роман
© Тимур Максютов, 2021
© ИД «Городец», 2021
* * *

Максютов Тимур Ясавеевич родился в г. Ленинграде в 1965 году. Вырос в г. Таллине (Эстония). По комсомольской путёвке был направлен в Свердловское высшее военное училище, которое закончил в 1986 году с красным дипломом и золотой медалью. Служил в Монголии и Забайкалье, капитан запаса. Председатель секции фантастической и сказочной литературы Союза писателей Санкт-Петербурга с апреля 2021 года.
Мой Город – тонкая мембрана между водой и небом.
Ловящая дыхание диафрагма, переливающаяся
полусотней цветовых оттенков – оттенков свинца.
Крыло бабочки, расправленное перед взлётом.
Или чешуйка, обронённая пролетевшим на закат ангелом?
На Востоке не принято ходить на кладбище.
Нет такого, как у славян: чтобы скамейка у могилы, покосившийся железный столик. Сесть, выпить, закусить. Поставить гранёный стакан с водкой, накрытый ноздреватым хлебом.
Поговорить с ушедшими из жизни за жизнь.
А женщинам татарским вообще дорога к мёртвым заказана. Нельзя на погост. Женщина – породительница сущего, хранительница его трепетного огонька. Ни к чему бывать там, где всё кончается.
Сегодня опять приснилось.
Я восьмилетний обалдуй. Летние каникулы в Башкирии, на большой железнодорожной станции Янаул. К вилке соседского «Школьника» бельевой прищепкой присобачена сложенная вчетверо почтовая открытка. Крутишь колёса – трещит. Словно микулинский двигатель славного штурмовика Ил-2. Я лечу на бреющем над утоптанной тропой и поливаю фашистских гадов яростным огнём автоматических пушек. Шмель сопровождения надёжно гудит над ухом.
На крыльцо выходит Белая Бабушка. Белая, потому что седая. И не от старости. Бабушка словно молодой воробей – маленькая, подвижная, задорная.
Она поседела, когда почтальон разом принёс ей две похоронки на сыновей.
Ак-аби старшая в роду. Не дожили ни муж, ни братья. Кто без вести, кто вскоре после войны от ран.
В Янауле был военный госпиталь. В парке слонялись выздоравливающие – бледные, в стиранных-перестиранных бинтах. Грелись на ярком уральском солнце. Улыбались: живы.
Моей маме было три года. Она вылавливала на улицах мужчин в выгоревших гимнастёрках без погон и тащила их, смущённых, к себе домой. Поясняя всем встречным:
– Это папа мой! С фронта вернулся.
Ак-аби принимала их, не гнала. Кормила. Слушала сбивчивые рассказы, положив подбородок с ямочкой на сухой кулачок…
Бабушка машет мне с крыльца:
– Умм, малай, айда домой!
Дома кружка тёплого молока утренней дойки, синеватого от пригоршни малины. Светящиеся изнутри ягоды бултыхаются, как бродячие морские мины в Финском заливе.
Разрумянившаяся бабушка хлопочет у печки. Эмалированный тазик наполняется шанежками, тёплыми, с жёлтой корочкой и коричневыми пятнышками на ней. Будто подсолнухи.
Бабушка берёт узелок с солнцебокими шанежками, повязывает выходной белый платок в мелких алых цветках. Берёт меня за руку:
– Айда.
Её ладошка твёрдая, тёплая.
Трубят маневровые, как слоны на водопое. Диспетчер хохочет по громкой связи на весь Янаул. Пахнет креозотом, полынью и пылью.
За путями кладбище. Покосившиеся, заросшие памятники: полумесяцы, изредка жестяные звёзды.
На дальнем краю загородка. Там железные, крашенные в голубое пирамидки. Без имён. Только даты и цифры: «12.06.1942. 6 чел.». «26.05. 1942. Семья».
Ак-аби делает немыслимое: идёт на кладбище. Отворяет скрипящую калитку. Достаёт шаньгу, разламывает пополам, одну половинку даёт мне. Крошит свою над травяными холмиками. Я делаю то же самое.
Тихо говорит:
– Земляки твои. Ленинградцы.
Поздней весной и летом сорок второго эшелоны эвакуированных шли печальным потоком, как одна похоронная процессия. Стояли в Янауле подолгу. Жители собирали последнее – прошлогоднюю картошку, вялые луковицы. Пекли «пустые» (откуда мясу взяться?) беляши и шаньги. Несли на станцию, к эшелонам.
Ленинградцы в вытертых тёплых пальто, в пуховых платках крест-накрест. Жарким башкирским летом их била ледяная блокадная дрожь.
Голодные, всё равно ели деликатно. Собирали крошки в птичьи ладошки.
И умирали прямо тут, над дымящимися тазиками с шанежками.
По всей дороге. До Перми. До Омска…
Конрад
Ладога, май 1942
– Воздух!
Капитан буксира, матерясь, оттолкнул рулевого и сам обхватил красными ладонями деревянные рукоятки штурвала. Просипел:
– Петька, смотри в оба! Как вниз пойдут – крикнешь.
– Маневрировать будем, товарищ капитан?
– Да какие, к чертям, манёвры! С этой мандулой не уйдём.
Капитан с ненавистью оглянулся через треснувшее стекло рубки на вихляющуюся сзади длинную баржу, набитую эвакуируемыми из Ленинграда.
Острые скулы, будто обтянутые грязно-серой обёрточной бумагой – на такой взвешивали блокадный паёк. Бесцветные, равнодушные глаза. Драповые пальто, измазанные штукатуркой, вытертые шубы, нелепые под тёплым майским небом.
Солнечные зайчики весело перепрыгивали с волны на волну. Недавно сбросившая ледяную чешую Ладога была непривычно ласкова.
Пикировщики встали в круг. Будто решили станцевать кровожадный танец перед тем, как накинуться на жертву.
Самая нетерпеливая «штука» вывалилась из хоровода и упала на маленький караван. Зудение превратилось в визг, прогнутые посередине крылья с «лаптями» обтекателей придавали самолёту облик сошедшей с ума и поэтому летящей кверху брюхом чайки.
Беловолосый мальчик, содрав жаркую шапку-ушанку, смотрел на «юнкерс». На плоскостях вдруг вспыхнули злые жёлтые язычки. Грохот очереди выбил из воды две фонтанные дорожки, распугав солнечных зайчиков.
Дорожки наперегонки скакали к борту.
Люди начали медленно, будто ломаясь, падать на колени, потом – ложиться на живот, неловко пряча под себя мешки и узелки с нищенскими своими драгоценностями. Крики раненых заглушал грохот пулемётов.
А мёртвым было уже всё равно.
– Бомбы экономит, сука. Развлекается.
Небритый дядька в замасленном бушлате, вцепившись прокуренными пальцами в ржавый борт, наблюдал за уходящим на повторный круг бомбардировщиком. Обернулся на стоящего мальчика и заорал:
– Свихнулся, малёк? Падай на палубу!
Немец возвращался, почти цепляя колёсами сверкающую осколками солнца воду.
Матрос пихнул мальчика в перекрещенную пуховым платком грудь, сам упал сверху, прикрывая. Крепко запахло махрой и перегаром.
Заполняя всё вокруг, нестерпимо выл самолётный двигатель. Отбойными молотками били в уши пулемёты.
Дядька всхлипнул и расплылся огромной, тяжелеющей тушей. Из него толчками выливалась кровь, горячая и липкая.
Мальчик попытался закричать, но не смог – передавленная грудь отказывалась дышать.
Вой. Грохот. И кусочек синего неба между нависающим бортом баржи и пепельными волосами матроса.
* * *
Капитан, кряхтя, поднялся по верёвочному трапу, перевалился через борт. Осколки стекла расстрелянной рубки порезали щетинистую щёку; юшка нехотя сочилась, капая на тужурку. Пробрался по скользкой палубе в бурых потёках, переступая через трупы, похожие на пыльные тощие мешки. Машинально поднял тряпичную куклу: лицо нарисовано химическим карандашом, рука оторвана, нитки болтаются, как обнажённые нервы.
Нашёл. Потрогал недвижную спину в чёрном бушлате. Просипел:
– Егорыч, чего же ты! А швартовка теперь на ком? Эх…
У борта скрючился труп мальчика с вырванным пулей виском. Белые волосёнки топорщились слипшимся тополиным пухом.
Капитан поморщился, оглядывая заваленную палубу. Пробормотал:
– Не довезли. Они думали, что отмучились, а теперь вон как…
Услышал скребущий звук, оглянулся.
Мёртвый мальчик искал что-то, шаря грязными пальцами по железу. Нащупал осколок височной кости, вставил на место.
И открыл глаза.
Город, лето
Открыл глаза.
Синим бугром громоздилось тело верного бахорга: правые три лапы перекрутила предсмертная конвульсия, крылья обгорели до костей. Седло с обрывками лопнувшей подпруги валялось шагах в двадцати. Это же какой мощности был заряд!
Игорь покосился на иконки. Жизней осталось всего две. Пятую он потерял, когда Чёрные выскочили из оврага – одного завалил выстрелом из арбалета, другого достал мечом, но последний успел выбросить когтистые педипальпы.
Четвёртая жизнь, ясная дело, сгорела во вспышке взрыва. А где ещё одна?
– Игорь Анатольевич!
Или Чёрных было больше?
– Игорь Анатольевич, там посетитель.
Дьяков чертыхнулся, содрал шлем. В глаза ударил яркий свет, щедро заливающий кабинет сквозь панорамное стекло.
– Лиза, сколько раз просил: не дёргай меня в обед! Что я, не могу в законный перерыв расслабиться?
– Пять часов уже, Игорь Анатольевич…
Ни фига себе! Надо завязывать с игрушками, а то вся жизнь пронесётся – не заметишь.
– Так почему раньше не зашла?
– Я заходила. Два раза. Вы обозвали меня гарпией и сказали, что болтов у вас на таких – полный колчан.
Игорь буркнул что-то неразборчивое и потёр стремительно краснеющие щёки.
– Что за клиент? Самой не решить? Я же принимаю только по записи.
– Он хочет лично.
– Мало ли кто чего хочет! Я вот хочу квартиру в Испании!
Елизавета хмыкнула. Ну да, глупость ляпнул: она же сама сканировала купчую. Окончательно разозлившись, Игорь махнул рукой:
– Пусть через сайт записывается. Или к Максу его, к бездельнику.
– Макса вы сами отправили в архив, в Подольск. Я приглашу, хорошо?
– Лиза! Ты для чего в приёмной посажена? Чтобы всякое дерьмо отсекать. Ты же мне и помощник, и телохранитель. Обязана беречь начальника, мозг его, душу и тело.
Помощница усмехнулась:
– Особенно последнее. Я-то не против. Там, в вашей игрушке, нет миссии с раздеванием телохранителя?
Дьяков поперхнулся. Елизавета спрятала улыбку, нахмурила бровки и сказала:
– Игорь Анатольевич, надо принять. Такому не откажешь. Сами увидите.
Повернувшись обтянутой попкой, поцокала каблучками к двери.
Игорь вспомнил, что не сохранился. И крепко выругался.
Вологодская область, июнь 1942
Паровозы кричали как раненые звери.
Белая ночь незаметно перетекала в утро. Начальник станции спал, поблёскивая лысиной над скрещёнными руками. Толстая женщина с лицом цвета сырого теста постучала по косяку.
– Петрович, можно? Там ленинградские бузят, тебя требуют.
Начальник поднял воспалённые глаза. Понял не сразу. Пробормотал:
– Литерный прошёл?
– Так ночью ещё, ты же сам пути разгонял.
Яростно потёр уши, просыпаясь. Нахлобучил выгоревшую фуражку.
– Чего бузят? Пункт питания работает?
Из-за женщины высунулся высохший человечек: непомерно большое, болтающееся на плечах вытертое пальто, круглые очки с треснувшей линзой.
– Позвольте, я сам. Товарищ железнодорожник или как вас там. Я старший вагона, Претро Арнольд Семёнович, профессор Ленинградского университета. Впрочем, это к делу… Это же безобразие! Наш эшелон загнали к чёрту на кулички, стоим уже сутки.
Начальник потянулся, треща позвонками. Устало сказал:
– График движения определяется вышестоящими инстанциями. И меняется постоянно. Вчера пропускали встречные воинские составы, потом литерный. Сейчас эвакогоспиталь пойдёт, там раненые бойцы. Вы же ленинградцы, сознательные люди. Должны понимать! Кипятком вас обеспечили? Пункт питания?
Женщина кивнула.
– Вот видите – работает пункт питания, круглосуточно. Что вам ещё? Раненые поедут в первую очередь, естественно.
– Там раненые, а у меня за ночь – четверо умерших, – тихо сказал профессор. – У людей силы кончились, слышите? Всё. Есть предел. Организм после длительного голода начинает пожирать сам себя, дистрофия на такой стадии неостановима. Плюс цинга, хотя – какой же это плюс? В городе ещё держались, а тут – всё. Мы же вырвались, доходит до вас или нет?! Эти люди такого насмотрелись – на фронте и десятой доли… Дети. Детей – половина эшелона. У них глаза как у стариков.
Профессор снял очки, сморщился. Достал грязный носовой платок.
– Ну всё, всё, – начальник подошёл, обнял за плечи – острые, костистые. – Вы же столько выдержали, потерпите ещё несколько часов.
Ленинградец сморкался и глухо говорил сквозь платок:
– Понимаете, им до пункта питания не дойти. Далеко. Вчера под вагонами проползали – девочку еле выдернуть успели из-под колёс. Можно доставку пищи к эшелону организовать, а? Подумайте, голубчик, умоляю!
– Это конечно. Татьяна, распорядись. Пусть термоса большие найдут. И хлеб в мешках отнесут.
– Нарушение инструкции, Михаил Петрович. Термоса-то откуда? Вёдра если только, так остынет в вёдрах-то, – забормотала женщина.
Начальник отодвинул её, не слушая. Вышел на платформу.
Паровоз на втором пути стравливал пар, сердито шипя и выбрасывая белые клубы. У водокачки смачно ругались смазчики.
Начальник шёл, солидно кивая в ответ на приветствия. Помятый репродуктор на телеграфном столбе рычал, хрипел, заикался – будто не хотел говорить:
– Гррр… информбюро… После тяжёлых продолжительных боёв оставили город Керчь…
Мужчина с медным чайником снял кепку. Растерянно сказал в пустоту:
– Как – оставили? А Севастополь что же теперь?
Репродуктор, не в силах продолжать сводку, разразился громовым треском и затих.
Подбежал бригадир обходчиков:
– Михаил Петрович, так не пойдёт! Вы зачем Смирнову рапорт подписали? У меня и так работать некому.
Начальник развёл руками:
– Так у него на второго брата похоронка. Как он может матери в глаза смотреть? Сказал – не отпущу, так всё равно на фронт сбежит.
Бригадир выматерился и закричал:
– А тут что, санатория ВЦСПС? У меня люди по двое суток не спамши. Ишь ты, сбежит он! Да любой на фронт со всей нашей радостью…
Бабка в чёрном платке налетела, заокала, размахивая рукавами растянутой кофты, словно крыльями:
– Слышь, милок, ты же здеся начальник? Где эшелон с ленинградскими-то? Ухайдакалась уже, не сыщу никак.
Петрович хмуро спросил:
– Тебе зачем, мать? Не положено по станции без дела шататься.
– Чо без дела-то? – всплеснула руками старуха, – я вот им тарку молока и миску кортошки припёрла, покормить хоть, угостить. Забесплатно, да. А то натерпелись, сердешные. Хороша кортошка, с укропом, с маслицем коровьим! И рогулек напекла, пущай лопоют!
– Откуда вы такие берётесь, дурные? Мы ленинградцев в пункте питания пустыми щами откармливаем, да понемногу. Нельзя после долгого голода много тяжёлой пищи.
Бабка пожевала губами, не понимая. Кивнула:
– Миска-то чижолая, да. Помог бы кто, – и продемонстрировала обмотанную тряпками огромную кастрюлю.
Репродуктор вдруг ожил:
– …Ленского исполняет лауреат Сталинской премии Сергей Лемешев.
Лауреат выспрашивал, куда удалились весны его златые дни, заглушая мат уходящего бригадира.
Репродуктор опять зарычал, обессиленный. И смолк.
Начальник станции снял фуражку, вытер платком лысину. Пошагал в сторону диспетчерской. Вздрогнул от неожиданности.
Паду ли я, стрелой пронзённый?
Иль мимо пролетит она…
Мальчик лет семи, перевязанный крест-накрест пуховым платком, пел чисто и сильно, будто настоящий оперный тенор. Белые волосы пушились над обнажённой головой.
– Что деется? – горько вздохнула старуха во вдовьем платке. – Умом тронулся, болезный. С голодухи-то! Ленинградской, сразу видно.
Начальник станции молча смотрел на мальчика с мёртвыми глазами, на изуродованный рваным шрамом висок.
…благославен и тьмы приход!
Мальчик вдруг прервался и продолжил совсем другим голосом:
– Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога…
Город, лето
Игорь Дьяков обычно с первого взгляда определял, ради чего заявился очередной клиент.
Красномордые нувориши искали дворянские (а лучше – княжеские) корни. Безликие чиновники с оловянными глазами заказывали гербы для своих богом забытых муниципалитетов: электорат справляет нужду в дощатых сортирах и топит трактора в бездонных лужах, но герб подай! Горячий джигит из Махачкалы, швырнув на стол пачку пятисотевровых банкнот, перетянутых аптечной резинкой, требовал срочно, немедленно, лучше – вчера, раскопать доказательства его происхождения прямиком от Пророка.
– Э-э-э, помоги по-братски: сын женится. В той семье троюродный брат дедушки – самого Расула Гамзатова родственник! А мы что, хуже?
Клиенты уходили довольными, дело процветало. С геральдикой было проще всего: выдумать гербы, невзначай упомянуть на презентации кадуцей, стропило и червлёно-серебряный бурелет – и заказчик твой. Бежит в банк переводить круглую сумму на счёт.
Изобретение громоподобных родословных давалось тяжелее. Дело было не в технической стороне: всегда можно раскопать стопроцентные доказательства того, что светлейший князь Потёмкин-Таврический ночевал в станице Энской по пути в Таганрог. А вот с кем ночевал – кто же знает? Вполне может быть, что и с прапрабабкой соискателя. Почему бы и нет? Григорий Александрович был мужчина снисходительный и сословными предрассудками не изуродованный. Факт прабабкиного адюльтера, конечно, недоказуем. Но зато – неопровержим!
Но вот моральная сторона… Менее удачливые и менее сообразительные коллеги-историки, упоминая Игоря Анатольевича, брезгливо поджимали губы, а на университетских голосованиях закидывали чёрными шарами. Да и самому было противно оповещать очередного волосатоухого купчину о его необычайно благородном происхождении от графа Священной Римской империи. Но Дьяков особо и не пачкался: обеспечивал соискателей только текстами исследований с осторожными формулировками («вполне вероятно», «не исключено»). А уж грамотами «общества потомков Рюрика» в тиснённых золотом папках свиной кожи и алюминиевыми «Орденами Святого Пигидия Василеостровского» мещан во дворянстве обеспечивали совсем другие люди. Хотя, конечно, по наводке Игоря – за долю малую.
Но здесь с первого взгляда было ясно – особый случай.
Возраст посетителя определить не получалось: ему могло быть и сорок пять, и шестьдесят. Прямая спина, холодное лицо, сплошь покрытое то ли шрамами, то ли морщинами, словно объёмная карта горной местности. Длинные пальцы переплетены, как корни древнего карагача. Под немигающим взглядом Игорь непроизвольно поёжился. Гость говорил рублеными фразами, будто отдавал команды.
– Я решил обратиться именно к вам, Игорь…
– Просто Игорь, – кивнул Дьяков.
– Хорошо. Меня разрешаю называть, например, Конрадом. Так вот. Я ознакомился с вашей деятельностью и оценил расследование с танком из Невы. Поэтому я здесь.
Игорь зажмурился от удовольствия. Дело и вправду было славное. В районе Невского пятачка аквалангисты обнаружили на дне затонувший в сорок втором году танк «Клим Ворошилов». Внутри неокрашенного, прибывшего прямо из заводского цеха корпуса (не было времени тогда на покраску, счёт шёл на часы) обнаружили останки шести человек. Игорь, неизменный консультант ребят из военно-исторического общества «Поиск», сразу заинтересовался шестым – сверхштатным – членом погибшего экипажа.
В пропитанном соляркой иле внутри бронекорпуса нашлись два загадочных предмета: фотография, наполовину размытая водой, и комок ржавчины и стекла.
На фотографии – юная брюнетка рядом с размазанным силуэтом, надпись на обороте: «март 41. Т. Д.» Эта тропинка поначалу показалась тупиковой: мало ли симпатичных ленинградок жили в ту предвоенную весну?
А вот с комком получилось интереснее: после тщательного изучения Игорь идентифицировал его как фотоаппарат редкой марки «Solo-34», выпущенный ограниченной серией в Бостоне в середине тридцатых годов двадцатого века.
Откуда в танке, провалившемся под лёд жуткой зимой сорок второго, оказался лишний член экипажа? Что делал внутри боевой машины импортный профессиональный фотоаппарат?
Кропотливая работа с первоисточниками привела, в конце концов, к цели: знаменитый ленинградский поэт и журналист, звезда тридцатых Георгий Цветов посещал Америку в тридцать седьмом году, делал серию очерков о профсоюзном движении. В его дневниках обнаружилась запись: «Неплохо живут рабочие лидеры в САСШ, совсем неплохо! На званом вечере подавали шампанское и лобстеров (местные раки, только крупные и не такие вкусные, как у нас на Дону) – и это в то время, когда пролетариат Детройта задыхается в чадном дыму литейных цехов по десять часов кряду! Мне вручили в подарок от американских братьев по классу новенький фотоаппарат с музыкальным названием».
Теперь и фотография брюнетки укладывалась в версию: возможно, «Т.Д.» и была той самой Татьяной Дубровской, героиней знаменитого стихотворения «Сирень», последней любовью поэта Цветова?
Да, пропавший без вести в декабре сорок второго корреспондент «Смены» Жорж Цветов, автор знаменитой «Маньчжурской баллады», любимец жён партноменклатуры и кумир ленинградских студенток уговорил-таки командира тяжёлого танка взять его на борт, чтобы первым сделать снимки развалин вражеских укреплений для свежего выпуска газеты.
Не получилось. Гибель его была страшной: в кромешной темноте, в густом мате, в обжигающей невской воде, затопившей танк через открытые люки…
На памятник собирали деньги всем Петербургом, но Игорь тогда выступил по телевидению и сказал, что лучшим мемориалом станет восстановленный «Клим Ворошилов», в котором поэт-безбожник принял свой последний бой, своё посмертное крещение в ледяной воде, крепко замешанной на крови и мазуте. А деньгам и получше применение найдётся – тем же блокадникам к празднику продуктов подкинуть.
– Было дело, – улыбнулся Дьяков, немедленно проникаясь симпатией к посетителю. Он и сам считал дело с танком самым славным из своих исторических расследований. – Чем же я должен вам помочь, э-э-э… Конрад? Старое германское имя, сразу вспоминается Конрад Старший, герцог франконский. Вы из остзейских немцев?
Гость сухо ответил:
– Не имею чести. Происхождение прозвища сейчас не стоит вспоминать. У меня к вам необычное и сложное дело, Игорь. Не уверен, что оно вообще кому-нибудь по плечу. Если не вы, то и никто.
Он прикрыл ладонями лицо – не защищаясь, а сосредотачиваясь. На безымянном пальце левой руки блеснул массивный перстень.
Игорь терпеливо ждал. Интересно, какие образы сейчас проносятся перед глазами гостя? Кому он шепчет глухо, то ли приказывая, то ли умоляя?
Посетитель наконец вернулся к действительности.
– Формулирую. Мне нужно расследование. Настоящее, серьёзное. Я пробовал сам, но мне не хватило узкопрофессиональных навыков. На их приобретение жаль времени.
Дьяков невольно поморщился: самоуверенность гостя начинала раздражать.
– Не ко всем документам удалось получить доступ. Поэтому я желаю поручить это дело вам. Вы должны справиться. Понадобится серьёзно покопаться в архивах, в том числе закрытых, а у вас есть нужные связи, я знаю. И включить логику. Словом, тщательно подготовленная, правильно организованная осада этой загадки – с траншеями, минами и контрминами, с мортирами и бомбардами. И финальным штурмом.
– Хм, – замялся Игорь, – тут, знаете ли…
– Не переживайте, – холодно заметил гость. – Деньги у меня имеются. Я понимаю, что будет недёшево. Как вам угодно – наличными, рублями или валютой. Могу перевести на счёт, в том числе любой заграничный.
– Я не о том, – замахал руками Дьяков. – Просто вы не сформулировали задачу. Вы так издалека заходите, что я просто не понимаю, чего ждать. Может, вам понадобятся точные координаты колчаковского золота или реальные доказательства причастности Бориса Годунова к известному убийству, а я, знаете ли, не волшебник. Итак, что вы хотите расследовать?
– Что же я хочу… – задумчиво протянул Конрад.
Вновь погладил иссечённое лицо длинными пальцами, блеснул жёлтыми нездешними глазами.
– Я хочу знать, кто я такой.
Ленинградская область, июнь 1937
– Газеты следует читать. Ежедневно.
Бабушка строго посмотрела сквозь очки. Зашуршала «Правдой», аккуратно складывая по сгибам, положила на стол, отодвинула любимую чашку с синей розой на боку, раскрыла портсигар. Застучала мундштуком папиросы по столешнице.
Мама сильно сжала руку, но мальчик стерпел. Он знал, что мама отчаянно боится бабушки, хотя и не понимал почему. Бабушка была, конечно, строгая, но нестрашная, у неё не было крючковатого носа с бородавкой, как у бабы-яги на картинке в книжке сказок, она не орудовала лопатой, чтобы усадить ребёнка в печь перед поеданием.
Может, потому что обед всегда готовила домработница?
Мама сказала тихонько:
– Мы торопимся, хотим вот на речку. Пока ещё не очень жарко, чтобы не напекло.
– И тем не менее, – строго возразила бабушка и выпустила в низкий потолок колечко дыма. – Вчера, двадцатого июня тридцать седьмого года, наши сталинские соколы Чкалов, Беляков и Байдуков завершили перелёт через Северный полюс и приземлились в Америке. Ты понимаешь, что это историческое событие? И не соизволила прочесть! Это неприемлемо, милочка!
– Я прочту потом, обязательно, – прошептала мама и бочком-бочком пошла с веранды, таща за собой мальчика.
– Поразительная несознательность. К обеду не опаздывайте! – сердито крикнула бабушка.
На улице мама повеселела. Нагнулась, сняла парусиновые тапочки. Сказала:
– Тоже разувайся. Ножкам полезно голенькими, а в городе-то по асфальту нельзя босиком.
Мальчик представил себе, как они шагают босиком по горячему тротуару Невского (бабушка всегда сердилась и говорила, что правильно его называть «Проспект Двадцать пятого октября»). Видя такое безобразие, постовой грозит жезлом и неодобрительно качает головой…
Нет, пусть лучше милиционер улыбается, подбегает, а вместо жезла у него мороженое! Вручает эскимо маме, мальчику дарит чудесный свисток и отдаёт честь.
Мальчик счастливо рассмеялся. Мама посмотрела удивлённо, а потом тоже заулыбалась, подхватила на руки, начала целовать:
– Чудо ты моё, хохотуша заливистая!
Так, босиком, они топали по мягкой пыльной тропинке, потом по прохладной траве, которая щекотала пятки. После мальчик нашёл прут и сбивал жёлтые цветки одуванчиков, будто храбрый конармеец острой шашкой – головы всякой белогвардейской сволочи (про это бабушка рассказывала). Наконец, пришли на берег.
Имя у речки было ласковое: Тихоня. Над ленивой гладью летали наперегонки синие стрекозы, садились на торчащие из воды тростинки и раскачивались, словно циркачи-канатоходцы.
Рядом расположилась компания, три загорелых парня. Они громко гоготали и поглядывали на маму, и мальчику это не нравилось. Ещё больше не понравилось, когда они бросились в воду, поднимая брызги и распугивая циркачек-стрекоз, начали плавать вдоль и поперёк Тихони, продолжая хохотать и коситься: видит ли их мама.
Мама ловко сняла через голову нарядный сарафан с воланами, оставшись в синем купальнике с эмблемой «Динамо». Вытащила заколки – волосы мягкой золотой волной легли на плечи. Потом строили из песка крепость, но получалось плохо: стены всё время норовили осыпаться.
Мама расстелила большое полотенце и сказала:
– Ложись и загорай. А я сплаваю, хорошо?
– Ма-а-м, я тоже хочу!
– Нельзя сразу, погрейся немножко. Будь тут, не уходи никуда!
– Почему мне греться, а тебе – купаться?
– Потому что потому, всё кончается на «у»!
Возразить было нечего. Мальчик обиженно буркнул:
– Ну и иди куда хочешь!
Мама нагнулась: её душистые нежные волосы коснулись лица, защекотали мальчику живот, и стало так хорошо, что замерло дыхание.
– Не дуйся, я быстро! Потом вместе у самого берега поплещемся, а то здесь сразу глубина.
Мальчик вздохнул. Плавать он ещё не умел. А было бы здорово саженками рассекать воду, отфыркиваться, а потом растираться полотенцем, как загорелые парни. А ещё лучше – в белой фуражке стоять на мостике большого советского корабля и отдавать всякие команды ловким матросам. Например, «полундра». Взять подаренный постовым свисток и свистеть всех наверх. Или «свистать»? Вокруг громоздятся льды, белые медведи приветливо машут лапами и восхищаются смелостью челюскинцев и капитана в белой фуражке…
Мальчик поднял голову, осмотрелся. Парни ушли за кусты: оттуда слышались тугие удары по волейбольному мячу и гогот.
Мамы не было видно. Нигде.
Мальчик вскочил. Солнечные зайчики прыгали по воде, слепили глаза. Увидел силуэт, похожий на золотистую голову, но нет, это солнце переливалось на поверхности реки.
Очень хотелось заплакать. Мальчик сжал зубы и пошёл к берегу. Стопы глубоко погружались в сырой вязкий песок, который удерживал, словно не хотел пускать.
Постоял. И шагнул вперёд.
Волна лизнула холодным языком. Мальчик зажмурился от страха и ещё раз шагнул. И ещё.
Ноги вдруг потеряли опору, ледяная вода набросилась, накрыла. Мальчика охватил ужас: он размахивал руками, что-то кричал, но получалось только бульканье. Силы быстро кончались.
Открыл глаза: над головой плескался солнечный потолок, медленно удаляясь. Мальчик вдруг понял, что эта весёлая, играющая бликами плоскость – последнее, что он видит. И стало легко. Или – всё равно?
Вдруг появились гибкие тёмные тела, в лицо мальчику заглянуло странное существо, похожее на огромную ящерицу: немигающие жёлтые глаза, чешуйчатая морда. Сильные лапы царапнули кожу, упёрлись в спину, выталкивая к солнцу…
Сверху падали горячие солёные капли.
– Не плачьте, мамаша, дышит ваш утопленник!
– Сыночек, ну как же так?! Я ведь говорила: никуда не уходи, жди меня!
Парень нёс его, завёрнутого в полотенце, на крепких руках. Вверху качалось синее небо, потом его закрыли переплетённые ветки, сквозь которые ободряюще подмигивало светило.
У него были жёлтые глаза с вертикальными щелями зрачков.
Город, лето
– …Только смутные детские воспоминания. Как вспышки от выстрелов в темноте: внезапно, без системы, без связи. Ни имени своего не помню, ни фамилии.
Гость словно отогрелся, вспомнил человеческие интонации и движения.
Прикрыл лицо ладонью, поэтому голос звучал глухо. Что-то было не разобрать, но Игорь боялся переспрашивать, напряженно вслушивался и корил себя за то, что не догадался сразу включить диктофон.
– Год рождения приблизительно тридцать третий. Или тридцать четвёртый.
Дьяков поражённо крякнул. Этому моложавому, подтянутому мужчине девятый десяток?
– Не удивляйтесь. Есть у меня… Скажем так, некие особенности. Потому и ведомство Берии так рано мной заинтересовалось. Или – не Берии? Лаврентий Павлович сгинул давно, а интерес остался. Очень навязчивый интерес, впрочем, об этом позже. Кстати, хочу сделать комплимент: в вашей книге «Наследники Джугашвили» многие детали точно описаны. Например, эта манера Шелепина чайной ложкой выстукивать марши на подстаканнике. А про Александра Михайловича вы зря так уничижительно, он, конечно, далеко не святой, но говорил вполне грамотно, всё-таки ленинградец, хотя родился в деревне и в органы пришёл от станка. Не был он кабинетным работником, отнюдь, лично диверсантов готовил, в блокаду за линию фронта десятки групп забросил.
– Это вы про Сахаровского? Начальника Первого главного управления КГБ?
– Да, про него.
– Кха-кха…
Игорь сделал вид, что закашлялся. Согнулся над столом и осторожно, пытаясь не заскрипеть, выдвинул ящик. Протянул руку, нащупывая диктофон.
Чёрт, клавиша запуска вторая или третья? Глупость, конечно. В ящике ничего не запишется.
– Вы не смущайтесь, – усмехнулся Конрад. – Доставайте свой магнитофон или что у вас там. Я же понимаю, для пользы дела.
Дьяков покраснел, пробормотал:
– Да я и не думал…
Задвинул обратно скрипнувший ящик. Злясь на себя, попробовал перевести разговор:
– А про родителей какие-нибудь сведения? Их имена, место работы? Ваш дом в Ленинграде, о нём хоть что-нибудь помните, кроме того, что на Петроградке? Сколько этажей, какие магазины рядом? Кинотеатр, трамвайные пути – любые зацепки. У меня есть подборки фотографий того времени. Посмотрите, может, вспомните, сильно облегчите мне работу.
Гость молча покачал головой.
– Я даже не представляю, с чего начинать. После войны прошло столько лет, неужели вы раньше не пытались что-нибудь выяснить?
– Я пытался, – тихо сказал Конрад. – Поначалу вообще ничего не мог вспомнить, только в пятидесятые начались случайные, как бы сформулировать, вспышки. Это в последнее время многое стало… Не знаю, как толком объяснить. Всплывать, что ли… Обычно во сне. Будто я мальчик в панамке, и мы с папой деревце сажаем во дворе дома. Как бабушка на маму кричит, как из репродуктора «граждане, воздушная тревога». А то вдруг, что я за басмачами по горам гоняюсь, и год на дворе тысяча девятьсот двадцать пятый. Или что я вообще девушка. Собираюсь на свидание и волнуюсь… Не надо делать такое лицо, Игорь. Я рассказываю абсолютную правду.
Дьяков закрыл рот и кивнул.
– Да, я уже добрых семьдесят лет пытаюсь понять, кто я на самом деле. Но всё это время мне мешали. Вернее, слишком активно помогали. Эти люди умеют, знаете ли… Нагнать туману, подменить документы. Да что документы, им целиком кладбище подменить не проблема. Придумать человека и биографию его в Большой советской энциклопедии напечатать. Назначить свидетелей его жизни. Жену, одноклассников. Мать родную. Сидит такая старушка в чёрном платке, мутные слёзы роняет. Рассказывает на камеру, какими тяжёлыми были роды имярека, и сама в это верит. А имярека не существовало никогда!
Дьяков поскучнел. Похоже, просто сумасшедший. Кто-то шапку из фольги мастерит для защиты от инопланетного излучения, а этот от вездесущих спецслужб спасается, страдалец. Надо же было так дёшево купиться, чёрт! Сахаровского лично знал, ага! С Шелепиным чаи распивал. Ещё немного, и окажется, что он самолично диктовал Ленину апрельские тезисы.
– Мы с вами уже больше часа разговариваем, уважаемый, – раздражённый Дьяков перешёл на официальный тон. – Моё время – деньги. Стоит ли продолжать? Либо оплачивайте консультацию и заключаем договор на услугу, либо…
– Не злитесь, Игорь, – миролюбиво заметил гость. – Я понимаю, что трудно воспринимать мной сказанное всерьёз. А ведь мы даже не начали толком знакомиться, и много вам открытий чудных… Сколько я должен за потраченное время?
Дьяков сгоряча объявил совершенно несусветную цифру. Конрад, не торгуясь, невозмутимо раскрыл бумажник, отсчитал и положил на стол купюры.
– Для договора удобнее, чтобы я был кем? – уточнил он и достал пачку разноцветных паспортов. – Гражданином Евросоюза? России? Или, может быть, Аргентины?
Игорь ошарашенно махнул рукой:
– Всё равно.
Конрад протянул синюю книжицу с семисвечником на обложке:
– Тогда пусть будет Израиль.
– Я отнесу секретарю для подготовки договора.
– Хорошо. А мне дайте пока ваш альбом с фотографиями, чем чёрт не шутит, может, и вправду признаю место.
Дьяков развернул экран монитора:
– Естественно, не фотоальбом, всё оцифровано. Вот так листать. Попробуйте включить ассоциативную память, в детстве она многое значит. Например, в нашем доме была булочная. Свежий хлеб привозили перед рассветом, грохотали поддонами, как раз под окном моей комнаты. Я всегда просыпался, слушал эти звуки: как деревянные поддоны скрипят по металлическим полозьям. И запах хлеба – душистый, кисловатый.
Гость слушал внимательно.
Игорь продолжил:
– Трамваи, например. Визжат на поворотах, будто бранятся. Или сирень. Звуки, запахи. Понимаете? Хоть какая-то зацепка.
– Да. Трамваи снова начали ходить пятнадцатого апреля сорок второго. А от парадной до булочной было четыреста пятнадцать шагов. Детских. Это метров двести, – гость говорил тихо, глядя в пространство. Словно был не здесь. – Поребрик расколотый, в щели – трава… Нет, не то. Пух тополиный. Как метель летом, поджигали его. А спички прятали от взрослых, у дворницкой, в стене хитрый такой кирпич. Вынимался, и ниша была тайная. Спички, точно. А старшие ребята папиросы ныкали. Тополь. Что-то там с тополем-то было…
Игорь кивнул:
– Вспоминайте.
Вышел из кабинета, плотно прикрыл дверь.
– Елизавета, включи камеру. Он, кажется, чокнутый, как бы не поджёг чего.
– Я в самом начале включила, всё записывается.
– Молодец ты у меня, умница! Купюры проверь, паспорт дал еврейский, наверняка подделка.
– Забыли добавить, что красавица. Вряд ли купюры фальшивые, и зачем почётному члену общества «Эрец» поддельный паспорт? У него должно быть вполне законное израильское гражданство. Я его сфотографировала сразу, как пришёл, и прогнала через поисковик. Нашла одно-единственное изображение. Зато какое! Смотрите.
Репортаж в «Нью-Йорк Таймс» от шестьдесят пятого года был посвящён международной спецоперации по спасению заложников-европейцев во время известных событий в Бомбанге. На фотографии раненую девочку-подростка перевязывал Конрад – в куртке французского парашютиста, с автоматическим карабином за спиной.
– По подписи и тексту непонятно, кем он там был. Но явно – не боевиком Катанги, – сказала Лиза.
– Ну дела, – пробормотал Дьяков. – А что ещё за структура, членом которой он является? И откуда ты это знаешь?
– Эх, Игорь Анатольевич, – вздохнула Лиза. – Вы же сами учили меня быть внимательной к деталям. Перстень у него видели? Наградной. Общество «Эрец» объединяет людей, совершивших подвиг во спасение народа Израиля. Например, его членом был Шиндлер. И Отто Скорцени за похищение и вывоз Эйхмана.
– Копию паспорта отправь Николаю, пусть по своим каналам пробьёт. Ну, как обычно.
Когда Дьяков вернулся в кабинет, Конрад сидел сгорбившись у потемневшего монитора.
– Я найду свой дом. Паук на стене булочной. Четыреста пятнадцать шагов.
Поднял на Игоря ледяные глаза: – Меня зовут Толик. Анатолий. Папа называл меня Топольком.
Ленинград, 1939
Пятиэтажный дом на Петроградке был огромной непознанной страной. Толик устраивал экспедиции в разные его уголки и закутки, каждый раз открывая какие-нибудь чудеса.
Как-то дворник забыл запереть чердак, и Толя с другом Серёжкой Тойвоненом, сыном самого настоящего красного командира, пробрались туда, в загадочный прохладный полумрак.
Из слуховых окон косо падали солнечные лучи, пылинки танцевали в их свете, как балерины на сцене Кировского театра.
Перелезая через толстые, пахнущие смолой балки, исследователи добрались до сваленных в углу деревянных лопат, которыми дворник Ахмед счищал зимой снег с крыши, и прочего барахла. Среди скучных корзин и угловатых ящиков обнаружили толстенный «Атлас водных путей Российской Империи» за 1884 год.
Серёжка шмыгнул носом и с видом знатока заметил:
– Это древние марускипты. Дореволюционные!
Толик задумался и поправил:
– Не «марускипты», а «манускрипты». Только они тогда должны быть написаны на папирусе или этом, как его? На животной шкуре, в общем. Свиной.
Серёжка ярко представил себе знакомую по дедушкиной деревне свинью Машу, худющую, грязную и носящуюся по двору за курицами. Дедушка называл её «холерой» и «Антантой грёбаной».
Поймать Машу было делом неимоверно трудным, а уж написать на ней что-нибудь – и вовсе невозможным.
Поэтому Серёжка авторитетно покачал головой и, кого-то копируя, пробасил:
– Это вряд ли, голубчик!
Толик упал на ящик и захохотал, дрыгая ногами так, что слетела стоптанная сандалетка:
– Голубчик!!! Хы-хы-хы! Слово-то какое смешное!
Серёжка посмотрел на товарища и тоже начал смеяться. Потом лёг рядом на ящике и задрыгал ногами, но шнурованные ботинки не слетали.
Потом вместе искали жёлтую сандалетку. Потом обнаружили под открытым слуховым окном брошенное птичье гнездо размером с чайное блюдце, аккуратно сплетённое из сухих травинок, соломинок и веточек, в которых застряли пёрышки. На дне лежало маленькое, с лесной орех, пёстрое яйцо, рядом – такие же пёстрые скорлупки.
Толик затаил дыхание, прошептал:
– Из него должен цыплёнок вылупиться. Тихо, не спугни.
Серёжка возразил:
– Это рыбу можно спугнуть, тогда не поймается, а яйцо какое-то маленькое.
– Может, это будет маленький цыплёнок, воробьиный?
Они просидели, не шелохнувшись, до самого заката, пока с улицы не донёсся визгливый голос:
– Сергей! Ну куда запропастился, ирод? Домой иди, ужин стынет.
В следующий раз дверь на чердак оказалась закрытой. Судьба яйца так и осталась загадкой.
* * *
Из мрачных подвалов тянуло плесенью и могильным холодом, туда Толик ходить не любил. Старшие рассказывали, что там охотятся на дошкольников гигантские крысы с горящими красным огнём глазами.
– Вам там делать нечего, мелкие, понятно? Сожрут вместе с косточками. Лёку помните из тридцатой квартиры? Вот, сгинул там, и с милицией не нашли! Постовой пошёл, фонарём посветил и увидел гигантского крыса с окровавленной пастью, а из неё кусок помочи Лёкиных штанов свешивается. Ну, мильтон начал из своего нагана садить, все пули выпустил – а зверю хоть бы что, даже не поморщился. Так что не вздумайте соваться в подвал!
Сами-то старшие туда наведывались часто, видимо, устраивали засаду на чудовищного крыса. Однажды Толик пытался подсмотреть подробности охоты через разбитое подвальное окно, но ничего не разглядел толком, только услышал глухие раскаты хохота и почувствовал запах махорочного дыма.
Перед Первомаем папа принёс с работы саженцы со странным названием «отбраковка». Как раз на ленинский субботник.
Репродуктор распевал бодрые марши. Старые листья и прочий мусор сгребали в кучи, Вовка из двадцать седьмой приколачивал скворечник. Папа вынес охапку саженцев, старшеклассники сразу налетели, оттолкнув мелюзгу, расхватали те, что получше – крепкие, украшенные яркими, как петлицы пограничников, листьями. Серёжка под шумок тоже утащил ствол. Они с матерью уже по очереди орудовали лопатой, готовя посадку.
На земле остался лежать последний саженец, тощенький, с бледным тельцем и сломанной веткой. Листики у него были вялые, серые, Толик чуть не заплакал от обиды.
– Ну, чего ты расстроился?
Папа присел рядом на корточки, обнял.
– Чего-чего… У всех деревья хорошие, а у меня доходяга чахоточная.
Папа рассмеялся:
– Это особенный тополь, среднеазиатский. Очень красивое дерево, сильное, высокое. Выше всех вырастет во дворе, до самого неба.
– Правда-правда? Прямо до небес?
– Правда. Только надо ему правильную ямку выкопать, хорошенько полить. А ветку сломанную мы перевяжем, и она заживёт.
Толик очень старался, хотя лопата была большая и тяжёлая. Потом, пока папа держал саженец за ствол, засыпал бледные корешки пахучей чёрной землёй. Сам натаскал воды из дворницкой. Выпросил у Вовки обрывок красной матерчатой ленты, из которой делали банты на первомайскую демонстрацию. Привязал к верхушке, пояснил:
– Чтобы советские военлёты издалека видели, когда будут на своих бомбовозах и дирижаблях пролетать. Мой тополёк ведь до самого неба вырастет, прямо у них на дороге.
Папа улыбнулся, поправил очки. Погладил Толика по голове, сказал:
– Ты у меня сам как тополёк. Волосёнки мягкие, светлые, словно пух тополиный.
Репродуктор передавал радиоспектакль про юность вождя, а мужики уже накрыли стол, обычно занятый доминошниками, звякали гранёными стаканами и хвалили папу:
– Молодец, Самойлыч, теперь наш двор самый зелёный в районе будет. Не сразу, конечно. Когда деревца подрастут.
Город, лето
Над раскалённым мешком Каменностровского проспекта дымилась хриплая ругань мающихся в пробке машин. Высокий беловолосый человек шагал по тротуару, глядя перед собой, не вынимая рук из карманов старомодного светлого плаща, надетого абсолютно не по погоде.
Стайка юнцов в драных шортах и лёгких майках лихо налетела, шурша колёсами скейтов. Ловко объехала шагающего, как автомат, мужчину. Кто-то весело крикнул:
– Не жарко вам в балахоне-то? Из какого музея добыли?
На лице мужчины не было ни капельки пота. В ответ на подколку не улыбнулся. Остановился у зеркальной витрины, попытался пронзить взглядом бликующее стекло – не смог.
Дверь распахнулась, звякнув колокольчиком, выбросила в раскалённый воздух одуряющую волну парфюма и натужное жужжание, будто пчела злилась не в силах найти леток.
На крыльцо вышла девица: волосы разноцветные, словно умывалась радугой, многочисленные колечки позвякивают в ушах, ноздрях и голом пупке. Вытащила тонкую сигарету, щёлкнула зажигалкой, скептически посмотрела на плащ, фыркнула.
– Сударыня, здесь теперь парикмахерская?
– Салон, мужчина. По-русски же написано.
– Несомненно. А булочная здесь была? Раньше? Например, лет двадцать назад?
Переносчица радуги опять фыркнула, словно молодая кобылка, брезгливо сморщила носик:
– Ну вы даёте, мужчина! Вы ещё спросите, чё тут при ихнем, как его… при Брежневе было. Если стрицца будете – так проходите, мастер свободен.
Человек не отвечал. Подошёл к стене, начал ощупывать, прикрыв глаза. Сделал шаг назад. Ещё отступил и замер на крае поребрика, вглядываясь в серую запылённую поверхность.
За спиной, в считанных сантиметрах, ползли машины, сердито сигналя замершей фигуре в нелепом плаще.
Многолетние слои штукатурки не смогли скрыть след давнего осколка: центральную щербину в ладонь и разбегающиеся от неё трещины. Один, два, три…
Восемь.
Восемь изломанных лапок.
– Паук. Вот ты где, паучок, – прохрипел человек в плаще. Качнулся, скользя подошвами, чуть не упал навзничь. Чёрный внедорожник вильнул в сторону, раздражённо заревел.
– Мужчина, вы чё, обкуренный? – фыркнула девица.
Поморщился. Отчеканил:
– Сударыня, извольте изъясняться вежливо. И не «ихнем», а «их».
Переносчица радуги выронила из оранжевых губ тонкую, как зубочистка, сигарету, дрогнула гирлянда канцелярских скрепок в ноздре:
– Чё?
– Не «чё», а «что». Папиросу подберите.
Девушка набрала воздуха, чтобы осадить седого, поглядела в нездешние глаза, осеклась, закивала:
– Да, конечно. А то чё… что же. Сударь.
Нагнулась за окурком, звякая железками.
– Благодарю вас, – сказал человек в плаще и церемонно поклонился.
Свернул в проулок, меря длинными ногами потрескавшийся асфальт, считая про себя шаги.
Дошёл. Остановился, задрав голову. Шевеля губами, подсчитал этажи.
Дом было не узнать. Фасад сиял зеленоватыми стёклами, свежей бирюзовой краской. Вернулась на фронтон лепнина, когда-то осыпавшаяся, словно перхоть с головы старика.
Арка внезапно оказалась забрана кованой решёткой. Мужчина потрогал новодельный чугун, оглянулся по сторонам, увидел дверь. Подошёл, подёргал вычурную бронзовую ручку, погладил металлические пупырышки домофона, отступил на шаг.
Удачно начавшийся поход завершился фиаско, здоровенная дверь в металлических фигурных накладках выглядела несокрушимой. Конрад почувствовал, как наваливается знакомая безысходность, не мучившая его вот уже несколько дней, с момента прилёта в Город.
Упрямо выдвинул нижнюю челюсть, шагнул к двери, решительно грохнул кулаком по кнопкам, глядя прямо в синеватый зрачок камеры, ещё раз и ещё.
Динамик щёлкнул, вяло пробормотал:
– Ну ты чего, сталбыть, больной? Тут вип-объект, в соседний двор ссать иди.
– Будьте добры, пропустите меня, пожалуйста.
– Непонятливый, сталбыть? Я тебе постучу сейчас. По голове, сталбыть.
И куда-то в сторону, глухо: «Лёха, иди сюда. Там какой-то конченый, сталбыть».
– Настоятельно прошу открыть.
– Может, ещё отсосать тебе? К кому припёрся? – уже другой голос, напористый.
– Мне действительно нужно попасть во двор. Извольте отворить.
– Да пошёл ты! Вали отсюда, пока я ментов… Тьфу ты, пока полицию не вызвал.
Анатолий постукивал кулаком по кнопкам – методично, без гнева.
– Ну ты нарвался, придурок…
Щёлкнул замок. Выскочил мужик лет тридцати пяти – лысый, плечистый, в чёрной униформе с нашивкой «охрана» на груди.
Конрад отступил, спокойно наблюдая, как охранник, пыхтя, пытается выдрать короткую резиновую палку из кожаной петли на поясе.
– Всё, каюк тебе, сейчас и без ментов…
Вышедший следом коллега плечистого, сутулый и мятый, лениво бубнил:
– Ну чё ты, чё ты? Не заводись, Лёха. Опять, сталбыть, проблемы будут.
Лысый подкатился на кривых пружинистых ногах, зыркнул снизу вверх:
– Сам уберёшься, дядя? Или труповозка понадобится? Чего пялишься, я тебе не телевизор…
Вгляделся в глаза Конрада – и вдруг обмяк. Замер, уронил дубинку на асфальт, скривился, будто собираясь заплакать.
– Майор, ты? Батя?
Уткнулся в грудь, обнял. Конрад глядел на сотрясающуюся лысину.
Охранник отнял от плаща зарёванное лицо, сбивчиво заговорил:
– Я ведь все годы… Та ночь под Гудермесом. Как ты меня тащил, Батя…
Конрад мягко убрал его руки, проговорил успокаивающе:
– Всё нормально, всё уже прошло. Кончилась та война, давно кончилась. Вы меня пропустите во двор?
Лысый всхлипнул. Утёр лицо рукавом, выдохнул, рассмеялся:
– Конечно, майор, тебя – куда угодно, хоть в Смольный. Жаль, я там сейчас уже не работаю, сюда вот кинули. Хочешь в Смольный, Батя?
– Спасибо за столь лестное предложение, но сейчас мне нужно именно по этому адресу. Я пошёл?
– Валяй!
Лысый нагнулся, поднял дубинку, начал дрожащими пальцами пристраивать в петлю, объясняя напарнику:
– Это наш майор, классный был командир. Со второй чеченской, если бы не он, половина питерского ОМОНа не вернулась бы. Мне-то наверняка цинк корячился. Железный мужик. Герой России!
– Командир, сталбыть, – кивнул сутулый. – Так сбегать, сталбыть, в магазин? Такое дело надо отметить. Боевое братство, всё такое. Герой, сталбыть.
– Да ты чего, не будет он пить. Он и живой-то не пил, а сейчас – тем более.
Сутулый икнул и переспросил:
– Живой? А сейчас какой?
– Так убили его. Вот как он меня вытащил под Гудермесом, медикам сдал – и через полчаса. Снайпер, точно в лоб, и сфера не спасла. Он ведь Героя посмертно получил. Эх…
Лысый вновь сморщился, утёр лицо. Махнул рукой и пошёл к двери, пошатываясь.
Сутулый икнул ещё раз и растерянно почесал лоб.
* * *
Двор был чужим.
Жил на Петроградской стороне обычный ленинградец, коренной. Рабочий оборонного завода или инженер, а то и конферансье из Дома культуры, местная знаменитость. Без излишеств, но достойно. Ругался с соседями по коммуналке, одалживал до получки, курил «Беломор» непременно фабрики Урицкого. Перед первомайской демонстрацией торопливо глотал из горла общественный портвейн в подворотне, а потом шагал, крепко сжимая выданный профоргом плакат. Слова на плакате были по отдельности правильными и понятными, но собранные вместе ничего не означали.
Грохотал костяшками домино по дощатой столешнице и покрикивал на мальчишек, гоняющих штопаный мяч во дворе.
На утоптанной земле островками пробивались бессмертные подорожники и одуванчики, сирень вечно подвергалась налётам подросших мальчишек, спешивших на первые свидания. Поломанные ветки вновь отрастали, чтобы в следующем мае опять приманивать начинающих донжуанов. На весь огромный двор – полдюжины гаражей, предмет зависти одних и гордости других. А теперь…
Конрад не узнавал страну детства. Куда что подевалось?
Землю накрыло больничное одеяло асфальта. Сараи и гаражи исчезли, как и бессмертная сирень. Одинаково подстриженные кусты неизвестной породы выстроились рядами, словно болваны-новобранцы на плацу. Когда-то просторный, бесконечный, тенистый двор оккупировало войско разномастных, но одинаково наглых иномарок – самодовольных, сияющих, надменных.
И деревья тоже пропали. Остался один тополь, дотянувшийся кроной до уровня крыши. Раскалённый асфальт двора дышал неподвижной мертвечиной, но там, на двадцатиметровой высоте, тополь ловил неощутимый внизу ветер: ветки подрагивали, листья колебались, меняя цвет, будто посылали точки-тире неизвестному адресату.
Конрад поймал сигнал. Погладил морщинистую кору, твёрдую, шершавую, как шкура дракона. Задрал голову, щурясь от сверкания полуденного неба. Там, среди серебряных листьев, вдруг мелькнула алая ленточка. Или показалось? Конечно, показалось.
Сел на скамейку рядом с крохотной детской площадкой: песочница в ладонь, горка, качели, всё ненастоящее, из пластмассы ядовитых, нарочито весёлых цветов. Прислушался.
Из-за глухих тройных стеклопакетов во двор не проникало ни звука. Не бранились хозяйки на кухнях коммуналок, не шкворчали сковородки с вечной яичницей. Патефоны и репродукторы давно выброшены на помойку.
Не кричали в форточки матери, зовущие обедать детей, исчез дощатый стол, за которым пенсионеры громко спорили про Данцигский коридор и шептались по поводу ареста профессора из двадцатой квартиры.
Конрад прикрыл глаза, бессильно уронил руки.
Чужой дом. А был ли свой? Или привиделся в многолетнем бреду ледяного плена? Тополь, ворона Лариска, строгая бабушка, закадычный друг Серёжа – неужели всё это лишь плоды искалеченного воображения?
В кроне тополя возились птицы, роняя вниз мелкий мусор. Волновались, хрипло каркая.
Конрад очнулся. В кустах кто-то хныкал. Раздвинулись ветки, и на площадку вылезла девочка лет семи: перемазанное нарядное платье, в светлых волосах – сухие палочки и ещё какая-то чепуха, ободранные коленки. Она капала слезами в сложенные лодочкой ладони.
– Вот, – протянула Конраду ладошки. – Он умер. Упал из гнезда, наверное.
Анатолий поморщился. Бестолковый детёныш. И уродливый птенец: голая синюшная кожа с едва пробивающимися перьями, закрытые бледными веками глаза, страдальчески изогнутый клюв с жёлтой окантовкой.
– Зачем ты эту дрянь в руки взяла? Сдох он, всё.
Девочка испуганно посмотрела на взрослого, у которого искала помощи. Запрокинула голову (мусор посыпался на платье) и зарыдала в голос.
– Не ори. Давай сюда.
Положил трупик в левую руку, накрыл правой. Сосредоточился.
Жизнью можно поделиться. Если уметь. Если занимал её когда-то, а теперь настало время вернуть часть долга.
Птенец дёрнул непропорционально большой головой, приоткрыл мутные глазёнки.
– Забирай. И прекращай реветь, не люблю.
Девочка кивнула:
– Не буду, дяденька. Ты волшебник? А я Настя.
Чёрно-серые птицы продолжали каркать, но теперь уже с явным одобрением.
Он пробормотал:
– Я не знаю, кто я.
Самая смелая ворона слетела пониже. Села, крепко обхватив когтями ветку. Наклонила голову и внимательно посмотрела на Конрада.
Ленинград, декабрь 1939
Ворона переступила по жёрдочке. Наклонила голову и внимательно посмотрела на Толика. Проворчала:
– Горрох! Прраво, дррянь.
Бабушка усмехнулась:
– Ты уж определись, дорогая: горох дрянь или твоё любимое лакомство?
Ворона Лариска замолчала, озадаченная.
Серёжка Тойвонен тоже молчал, явно напуганный. Толик подтолкнул приятеля:
– Ну, чего ты хлюздишь? А ещё сын красного командира! Дай ей гороху-то.
Серёжка шмыгнул и протянул ладонь с тремя желтыми кругляшами.
Лариска оживилась. Ткнула клювом, задрала голову, проглатывая вкуснятину. Серёжка засмеялся:
– Щекотно.
Третью горошину ворона есть не стала. Взяла, взмахнула крыльями, взлетела на шифоньер.
Тётя Груша, мама Серёжки, восхитилась:
– Вот ведь животина какая умная!
Бабушка возразила:
– Горох лопать – много ума не надо. Ей уже десять лет, а говорить так толком не научилась, две дюжины слов, и все невпопад. Лариска и есть, недаром в честь Рейснер названа.
– А кто это, Софья Моисеевна?
– Да была одна такая, девица ветреная и бестолковая во всех отношениях. Ты, Агриппина, пьесу Вишневского «Оптимистическая трагедия» имела счастье смотреть?
– Да, – обрадовалась Груша. – Муж водил в концерт, на октябрьские праздники. Там ещё комиссарша своё тело морячкам предлагает.
Бабушка всплеснула руками, рассмеялась:
– Вот он, глас народа! Точнее и не скажешь. Лариска и была прототипом той комиссарши, с предложением тела у неё не задерживалось. Может, и плохо так про покойницу, но царствия небесного я ей желать не буду, ибо бога нет, как и его царствия.
Груша испуганно дёрнула правой рукой, словно хотела перекреститься.
– Может, зря вы так про неё, Софья Моисеевна? Всё-таки большевичка, героиня, получается, нашей славной истории.
Бабушка поморщилась:
– Милочка, я ведь историю, в отличие от тебя, не по «Краткому курсу» изучала. Я её делала, вот этими руками. Давайте лучше пить чай.
Бабушку Софью побаивался весь дом, даже грозный дворник дядя Ахмед. Однажды упившийся в хлам жулик Свищ, отмечавший удачный гоп-стоп, порезал собутыльников. А потом выскочил во двор с окровавленной финкой, базлая что-то невразумительное, но грозное. Доминошники брызнули от своего стола шрапнелью. Жутко заголосили женщины, Толик, тогда ещё совсем малец, замер в песочнице с лопаткой в руке. Свищ хрипел, пуская слюни на разорванную рубаху, таращил белки, выплёвывая страшные слова:
– Попишу. Суки все, амба вам пришла.
Казалось, дрожал весь двор – и сараи, и деревья, и серое небо. Толик смотрел на шатающегося жулика и чувствовал, как становятся горячими и мокрыми штанишки.
Бабушка появилась неожиданно. Встала между Толиком и Свищом, уперев руки в бока. Гаркнула:
– А ну, хорош бакланить, падло. Брось перо.
Жулик остановился. Выставил нож, забубнил:
– Ты чё, кобёл, я тебя…
Бабушка молча ударила кулаком в центр мятого лица. Свищ выронил финку, сел на задницу и схватился за потёкший юшкой нос, подвывая.
Так и сидел, пока не прибежали запыхавшиеся постовые, за которыми прятался растерянный дворник со свистком во рту.
Происшествие только укрепило непререкаемый бабушкин авторитет. Вспоминая этот случай, она смеялась:
– За шесть лет на царской каторге и не таких мазуриков видала.
Иногда приходили в гости старые бабушкины подружки, строгие женщины с седыми хвостиками. А во дворе Софья Моисеевна ни с кем близко не сходилась, только с соседкой снизу, женой красного командира Тойвонена.
– Агриппина, ешь варенье. Крыжовниковое, вкусное. Сама варила, на даче.
Тётя Груша загребла варенье из хрустальной вазочки столовой ложкой. Потом громко прихлебнула чай из блюдечка.
Бабушка снова поморщилась:
– Агриппина, что у тебя за привычки, право слово! Ты должна быть примером в культуре поведения, как супруга красного офицера.
– Скажете тоже, – Груша закашлялась, замахала руками. – Какой же офицер? Последних офицериков в двадцатом постреляли, так туда им и дорога, буржуям.
– Скорее, дворянам. Хотя и разночинцев хватало.
Бабушка достала папиросу, стала разминать сильными пальцами. Прикурила, сломала спичку в пепельнице.
– Офицеры, милочка, были не только примером служения, но и образованными людьми. И то, и другое было бы полезным для новой пролетарской интеллигенции. Так. Анатолий, Сергей, вы чаю попили? Идите играть.
Серёжка притащил с собой удивительную книжку с толстыми картонными страницами, яркими рисунками. Картинки обладали волшебным свойством: если поставить книжку на попа и раскрыть страницы, то они, прорезанные по контуру, выдвигались, становились объёмными. Вот рыцарь, наглухо закованный в сталь, скачет на вороном коне, а вот – принцесса в невиданном пышном платье, с грустными голубыми глазами, золотыми волосами и розой в руке. Понять, про что книжка, было невозможно – буквы незнакомые, смешные, с точками и чёрточками над гласными. Её прислал старший Тойвонен из заграничного Таллина, где служил сейчас.
– Наверное, этого пса-рыцаря дожидается, – предположил Серёжка.
– Точно! А наши его на Чудском озере поймают – и под лёд, как в кинокартине!
– И поделом ему, фашисту! – захохотал Серёжка.
– Я три раза на «Александра Невского» ходил, – похвастался Толик.
– А я – четыре. Жаль, не показывают больше.
– Помнишь, наш ка-а-ак рубанёт мечом, и рог у фашиста с башки долой!
Толик замахал руками, наглядно показывая, как иностранный захватчик лишился грозного украшения, и нечаянно зацепил статуэтку Дон Кихота. Чугунный борец с мельницами упал с тумбочки вместе с верным Росинантом, производя невообразимый грохот.
– Вы что там балуетесь? – крикнула бабушка из соседней комнаты. – Шюцкоровцы малолетние! Идите на улицу хулиганить.
Когда торопливо обувались в прихожей, Серёжка шёпотом спросил:
– Как думаешь, а у рыцарей рога прямо из головы растут? Или только на шлеме?
– На шлеме, – авторитетно ответил Толик. – Потому что если на голове, то и шлем на башку не натянуть. Рога мешать будут.
Город, лето
Кондиционер в офисе Дьякова был близок к смерти от истощения сил. Июль выдался чудовищно жарким.
Лысина, толстая шея, багровое лицо клиента были облеплены капельками пота, как сумочка его спутницы – стразами. Заказчик уперся толстыми короткими пальцами в столешницу, угрожающе нагнул голову, словно бык, выискивающий у матадора место помягче.
– Чё за ботва? Какой ещё олень? Это чтобы пацаны засмеяли: Вован у нас олень? Ты бы заодно петуха пририсовал, умник. Ещё и с палкой в жопе.
Хрупкий Макс в майке «милитари», не придающей ни капли мужественности, откинулся на стуле, сложил тонкие руки на груди защитным жестом.
– Прекрасный геральдический символ. Вы же сами сказали, что по отцовской линии из донских казаков, а белый олень, пронзённый стрелой, – их тотем с допетровских времён. Это стрела, а не палка.
– А цвет голубой почему? Чё за намёки?
Макс умоляюще посмотрел на шефа:
– Игорь Анатольевич, объясните вы ему.
Дьяков кивнул:
– Всё верно, лазурь символизирует красоту, мягкость, верность, честь, величие…
– Чё?! – багроворожий начал подниматься из-за стола. – Какую, мля, красоту и мягкость?!
Помощь пришла откуда не ждали. Подруга заказчика с вывороченными, словно атакованными пчёлами, губами, вступилась за историков:
– Котик, но ведь это НАШ герб. Конечно, красота. И ты на самом деле у меня добрый и мягкий. В душе. На самом донышке.
Котик хмыкнул. Хлопнул спутницу широченной ладонью по ботоксной ягодице – звук получился резкий, будто воздушный шарик лопнул.
– Ладно, киса. Берём. Заверните. Только ещё шлём добавьте рыцарский с рогами, я такой в кино видел. Типа, мы не из мужиков, а из бойцов.
В переговорную заглянула Елизавета:
– Извините, пожалуйста. Шеф, там неотложное дело.
Николай звонил на офисный номер, а не на мобильный, что уже было странным. Говорил тихо и сбивчиво:
– По последней твоей просьбе, родное сердце. Такие дела. Встретиться надо, есть вопросы.
– По последней, м-м-м? По реабилитированному? Как его, Арзумяну? Или…
– Нет, не гадай. Встречаемся через пятнадцать минут. Не где обычно, а рядом, номер дома – как калибр самолётной пушки, про которую мы с тобой спорили недавно. Отбой.
– Всё в порядке, Игорь Анатольевич? – Елизавета крутила в тонких пальцах карандаш.
– Что-то он темнит. Страхуется от подслушки, опять мы, видать, не туда влезли – как тогда, когда про дедушку мэра случайно накопали… то, что накопали. Ладно, я пошёл.
– Не забудьте, через час у вас встреча. С Конрадом.
– Помню. Держитесь тут. Занимайте круговую оборону.
* * *
Николай Савченко был загадкой, которую не хотелось разгадывать. В настоящем – пенсионер, использующий прежние связи для скромного дополнительного дохода, а в прошлом – сотрудник спецслужбы. Какой именно, в каком звании – неизвестно. В начале знакомства Игорь пытался было выяснить, но приятель лишь многозначительно молчал, и тема закрылась сама собой. Дьякова вполне устраивало, что Николай умел добывать любую информацию из самых засекреченных архивов и брал за неё весьма разумные деньги. Какая разница, как ему это удавалось?
Игорь дошёл до дома номер тридцать семь (именно столько миллиметров имел калибр пушки американской «Аэрокобры»), прошёл через ободранную арку и обнаружил знакомца на скамейке в тихом дворе. Савченко в любую погоду ходил в сером костюме, застиранной рубашке и засаленном галстуке. Да и весь он был среднестатистический, неприметный.
– Привет, Коля. В кафе пойдём?
– Нет. Тут.
Николай достал замызганный платок, вытер вспотевшее лицо, Игорь посмотрел с сочувствием:
– Не жарко тебе в пиджаке?
– Ничего, привыкший. Я по твоему запросу на Конрада. В списках граждан Израиля, получивших даркон, так у них называют загранпаспорт, человек с таким именем не числится…
– То есть документ поддельный?
– Не перебивай. Документ самый что ни на есть подлинный. Но данные на владельца заблокированы. В закрытой базе – и заблокированы. То есть, например, сотрудник «Моссада» их получить не может.
Игорь промолчал, морща лоб.
– Не брался бы ты за это дело, Анатольевич… По дружбе советую.
– Во как, – растерялся Игорь. – Да мы только начали. Блокадный ребёнок родственников ищет, пытается правду выяснить, помнит только обрывками. Видимо, пережил травму, связанную с потерей памяти. Какой тут криминал?
– Не криминал, Анатолич, не криминал. Что-то похуже. Документы в реестрах числятся, а по факту – отсутствуют. И выписки из домовой книги, и петроградский ЗАГС. Да вообще, – Николай понизил голос, почти зашептал: – Даже в архиве по нашему ведомству пусто. Ни про отца, ни про бабку. А бабка у него непростая была, отец по вавиловскому делу проходил. Такие бумаги вечно хранятся, а их нет. Ну, понимаешь…
– Не понимаю. Утеряны, что ли, документы?
Николай поморщился, будто хотел чихнуть:
– Ты что, родное сердце, у нас ничего не теряется. Изъяты. Аккурат в пятьдесят втором, по распоряжению сверху. С самого верху.
– Скажи ещё, что сам председатель КГБ распорядился, – усмехнулся Дьяков.
– Выше бери.
Дьяков перестал улыбаться.
– Куда выше-то?
– Был такая секретная служба при ЦК партии. Даже у нас никто толком не знает, чем она занималась. Одни нелепые слухи, то про наследие Чингисхана, то про этих, как их… рептилоидов.
Дьяков внимательно посмотрел на собеседника.
– Мы с тобой сколько знакомы, лет восемь?
– Девять лет, два месяца и восемь дней, – быстро ответил Савченко. – А что?
– А то, что от тебя чего угодно можно было ожидать, кроме чувства юмора. Что ещё за шутки про рептилоидов?
– Много вы понимаете, гражданские, – махнул рукой Николай. – Ты хоть в курсе, почему данные анализа ДНК товарища Ленина засекречены?
– А они засекречены?
– Ладно, родное сердце. Меньше знаешь – чище моча. Спрашиваю во второй и последний раз: отказываешься от этого дела? От Конрада?
– С какого перепугу? Ты ничего толком не объяснил. Он, конечно, человек специфический, какая-то тайна за ним явно чувствуется, иногда даже оторопь берёт. Но так ещё интереснее.
Николай поморщился и погладил левую сторону груди.
– Человек, говоришь, необычный? Ну да. Конечно, человек. Кто же ещё? Не ангел же небесный и не демон. Ладно. Пусть катится, куда катится.
Савченко поставил на колени древний портфель. Щёлкнул латунным замком, порылся, достал папку и тонкую пачку купюр.
– Вот. Всё, что удалось достать из документов, мало, но, может, и пригодится. И аванс. Возвращаю.
– Погоди, – Игорь схватил приятеля за рукав. – Ты чего испугался? И деньги забери, ведь сделал какую-никакую работу.
Савченко стряхнул его пальцы аккуратно, как насекомое.
– Я не знаю, как это сформулировать. Но чувствую – нельзя в это дело лезть. Костным мозгом чую, что страшное дело, тёмное. И тебе не советую, родное сердце, мне тут один старый товарищ, Аксолотль его прозвище… Двадцать пять лет не общались. Вдруг – появляется. Всё намёки, хиханьки. Но я догадался: пытается через меня выйти на того, кто Конрадом интересуется. Я, конечно, дурака включил, не раскололся. И не потому, что мы с тобой девять лет… Знаешь, когда эти ребята прижмут, и маму сдашь с потрохами, и дитя родное на органы. Обида у меня на него, в перестройку новая тема была, тебе не понять. Словом, избранные товарищи всё заранее знали, а может, и сами поучаствовали в процессе. Но себе соломки успели подстелить, жрали потом лобстеров по заграницам. А таких, как я – на пенсию, тысячами, несмотря на заслуги. Я вот два раза нелегалом… В фавелах этих отбросами питался. Кровь сдавал, чтобы пожрать нормально, гнилые бананы воровал. А дело своё сделал от и до, и к ордену меня заслуженно представили. Ладно.
Савченко резко поднялся. Проигнорировал протянутую для прощания руку.
– Не ищи меня, Игорь, все записи почисти. И телефонный номер сотри. Иначе они на тебя выйдут и выяснят всё. А потом тебя самого вычистят и сотрут, до третьего колена.
– Чего выяснят? Я не знаю ничего.
– Эти люди умеют. Расскажешь то, чего не было. А конец всё равно один. Прощай.
Дьяков растерянно смотрел в спину бывшего партнёра. Серая фигурка всосалась в тёмную пасть арки – и исчезла, как проглоченная.
* * *
– Елизавета, слушай внимательно, не называй имён. Когда подойдёт тот, кому назначено, отправишь его в кафе, где я тебе впервые про Георгия Цветова рассказывал.
– Э-э-э, про Цветова, помню, да. Вы про Конра…
– Елизавета! Не называй имён, говорю. Я уже на месте, жду.
Дьяков выключил телефон. Подцепил ногтем крышку, вытащил зелёный квадратик симки, начал нервно озираться.
В кафе было почти пусто. Только фриковатая девица с дорогим фотоаппаратом – обритая наголо, от чего и так большие глаза казались просто огромными – прихлёбывала кофе из кружки, уставившись в смартфон. Оторвала взгляд от гаджета, посмотрела на Дьякова – странно, внимательно, будто измеряя. Или – сравнивая с фотографией на стенде «Их разыскивает полиция». И снова уткнулась в фотоаппарат.
Дьяков подумал: «Бред. Паранойя. Кому я нужен? Кому нужен он, несчастный пенс с провалами в памяти?»
Засунул на место симку, пробарабанил нервными пальцами по столешнице. Старик, конечно, не простой, обычная, казалось бы, история с восстановлением родословной приобретала черты мрачной тайны. Граната с вырванной чекой, которую лучше не трогать, а пройти мимо на цыпочках – пусть лежит.
На пороге кафе возник Конрад. Осмотрелся, подошёл, присел. Лицо, как всегда, невозмутимое. И наглухо застёгнутый светлый плащ – в такую жару.
– Какие новости?
Дьяков кашлянул. Сложил пальцы в замок, нервно спросил:
– Вас не удивляет, что я перенёс встречу сюда?
– Вам виднее. Может, у вас ланч. Или сиеста, – Конрад безмятежно откинулся на спинку стула. – В одной жаркой стране днём у всех перерыв на неспешные разговоры. Сидят в тенёчке, кофе пьют из крохотных чашечек. Правда, они это называют не «сиестой», они и слова такого не знают. Я там долго жил. Вернее, хранился.
– В смысле?
– А вот как картошка в овощехранилище. Или экспонат в музее. Лежит под стеклом, думает о своём. Мимо люди толпами, а он лежит. Вспоминает. Вернее, пытается.
Игорь растерянно молчал.
– Чёрные горы. Серые дома. Глина, обожжённая солнцем до крепости гранита. И – пыль кругом. Древняя пыль. Извечная. В газетах будто не буквы, а мелкие насекомые. Червячки. Ползут безостановочно, вцепившись крохотными зубами в хвост соседа.
Дьяков гладил пальцами стакан с теплеющей водой. Слушал.
– Время там густое, тягучее, как сироп. Люди в него падают, словно мошки – и всё. Поболтают лапками и замирают. Мимо грохочут века подкованными сапогами, ревут реактивными двигателями. А люди-мошки лениво посмотрят – и дальше дремлют. Хорошо.
Игорь слушал – и будто уплывал куда-то. Едва пошевеливая лапками. Боясь спугнуть откровение, тихо спросил:
– Если там так хорошо – зачем приехали?
– Значит, время настало, – просто ответил Конрад.
Подтянулся, сверкнул льдинками зрачков:
– Что по моему делу? Новости?
Игорь провёл ладонью по лицу, стирая наваждение.
– Я не смогу ничего сделать, если вы не будете до конца откровенным. В деле возникли неожиданные сложности. Мой постоянный осведомитель отказался сотрудничать. Более того, он напуган, чего за ним никогда не водилось. Что вы скрываете?
Конрад улыбнулся – одними губами.
– Вам по порядку перечислить? Знаете ли, от мотылька никто не скрывает формулу ядерной реакции. Мотылёк её просто не поймёт.
– А вы на редкость деликатны. Зачем же тогда обратились к безмозглому насекомому?
– Не обижайтесь. Мои слова – скорее, форма защиты. Невозможно скрывать то, чего не знаешь наверняка. Мне трудно разобраться, что в моей истории было на самом деле, а что – галлюцинации. Можете конкретнее сформулировать вопрос?
Игорь не ответил. Замерев, смотрел, как через зал к ним решительно идёт бритоголовая девушка, держа в отставленной руке тяжёлый чехол фотоаппарата.
Успел прошептать:
– Как глупо…
Ленинград, март 1940
Книжку Льва Кассиля «Черемыш – брат героя» прочли по три раза. И решили, конечно же, стать лётчиками.
Но в военлёты сразу не берут. Серёжка узнавал: сначала надо в кружок авиамоделизма, потом в аэроклуб, и уж после аэроклуба – в кабину самолёта-рекордсмена, штурвал крутить. Эх, жаль, Валерий Чкалов геройски погиб при испытаниях нового аппарата, не дождался таких славных помощников…
В кружок авиамоделизма Толика и Серёжку Тойвонена не взяли. Сказали приходить, когда в пионеры примут. А пока малы, не годятся для ответственного дела – клеить модели с красными звёздами на крыльях.
Толик хотел даже зареветь (в спорах с мамой это иногда помогало), но увидел, как друг тоже хлюпает носом. Собрался и басом проворчал:
– Ну, развёл сырость… Ты же сын красного командира! Он там на войне, белофиннов бьёт, а ты хнычешь, как девчонка.
Выпросили у сердитого руководителя кружка старый журнал с чертежами. В коридоре Дома пионеров увидели валяющиеся грудой рейки и рулон промокшей папиросной бумаги.
– Давай стащим, – предложил Серёжка шёпотом.
– Нельзя, это получится воровство, – сурово сказал Толик. – Октябрятам так не годится. Подожди-ка.
Вернулся, постучал несмело в дверь кабинета, просунул голову:
– А там у вас мусор в коридоре. Разрешите, мы поможем, выбросим?
Дядька в выгоревшей гимнастёрке подобрел, кивнул:
– Добро. Вот это молодцы, хвалю. Вынесите на помойку. Так уж и быть, приходите осенью, может, сделаем для второклассников исключение.
Разложили добычу на каменных ступеньках заднего, заколоченного крыльца. Рейки были сплошь порченые, расколотые да поломанные – потому и выкинули. Занозив руки и изрядно продрогнув (март в сороковом году выдался сумрачным и холодным), отобрали ворох более-менее годных.
– Ничего, не хлюзди, – сказал Толик. – Подклеим, нитками обмотаем, будут как новенькие. Сгодятся на самолёт.
– И бумагу просушим, – подхватил Серёжка. – Только аккуратно надо разматывать, чтобы не порвать, она тонкая, зараза. А клей где возьмём?
Толик не знал, где брать клей, но признаваться не стал. Сплюнул сквозь дырку на месте выпавшего зуба, подражая Вовке – главному дворовому хулигану.
– Добудем. По-честному.
* * *
По-честному не вышло. Попросили у дворника Ахмеда, а тот зол: кто-то спёр из дворницкой самовар. Сидит теперь Ахмед, ругается по-татарски: замучался на морозе ломом да лопатой махать, лёд во дворе убирать, а тут чаю не выпить, не погреться. Прогнал, про клей и слушать не стал.
Толик расстроился:
– Ну вот, не будет у нас самолёта.
– Почему же не будет? – шмыгнул озябший Серёжка.
– А чем клеить? Соплями твоими?
Пошли было домой, но у подвальной двери встретили Вовку-хулигана. Весёлый, раскрасневшийся, водкой пахнет. Кричит:
– Алё-малё, дефективные, дуйте сюда шибче!
Ребята подошли с опаской: Вовка со взрослыми жуликами знается, даже со Свищом. Может и обидеть, деньги отобрать. А то вдруг добрый: один раз ножик подарил перочинный, хоть и поломанный – всё равно зыкий.
– Песенку знаете?
На майдане жмурики,
Прячутся мазурики:
Всё лютует губчека,
У Урицкого – тоска…
Песня ребятам не понравилась, другое дело про Конармию! Про Каховку, родную винтовку. Но возражать побоялись.
– Аля-улю, гужуемся нынче: у бабая самовар подрезал да загнал за червяка. А вы чего смурные?
Толик объяснил про самолёт. Вовка рассмеялся:
– То не драна для жигана! Достану вам казеинки.
– Вот спасибо! – обрадовался Толик.
– За спасибо и жучка не ляжет. Капуста имеется?
Серёжка удивился:
– Так на кухне, два кочана. А тебе зачем?
– Ну вы фраера, – захохотал Вовка. – Ладно. Папиросы есть дома?
– У меня нет, – замотал головой Серёжка. – Батя на войне, а мамка не курит.
– У моей бабушки Софьи Моисеевны должны быть, – признался Толик. – Я могу попробовать. Это. Взять, ну, без спроса.
Толику было страшно произнести НАСТОЯЩЕЕ слово, обозначающее то, что он собирался сделать. Слово это было «украсть».
– Бабка у тебя козырная, – поёжился юный жулик. – Гляди, ноги не замочи. Пять папирос – банка казеинки. И это, про самовар не слягавьте кому. Попишу.
По ступеням Толик поднимался еле-еле. Серёжка смотрел на друга с восхищением, а у того горели щёки: воровать ещё никогда не приходилось. Тем более – у родной бабушки.
* * *
Банку с клеем Толик спрятал в родительском шкафу. Там, под вешалкой с шубами и пальто, стопками были сложены папины журналы «Вестник ВАСХНИЛ» и ещё, на иностранном языке, вот за журналы и спрятал. А то если бабушка спросит, откуда клей, Толик точно признается.
Серёжка простудился. Тётя Груша заругалась:
– Сил нет с тобой, вредителем малолетним! Опять шатался весь день, нет бы, уроки учил. Вот отец с войны вернётся, первым делом надерёт тебя ремнём. Марш в кровать!
Толик сидел в большой комнате, где они жили с папой и мамой. Комната угловая, просторная, с широкими окнами. У бабушки меньше. Одна живёт и пускает к себе неохотно. А там очень увлекательно: портрет дедушки в красноармейском шлеме, настоящая сабля на стене висит, её дедушке вручил сам Тухачевский, об этом на латунной табличке есть слова, а табличка к эфесу привинчена, но бабушка об этом велит никому не рассказывать. И ещё много фотокарточек: какие-то дядьки и тётки в древних дореволюционных нарядах, по двое и большими группами. Есть и времён гражданской: у паровоза, и под плакатом «Партийная конференция Петроградской кавдивизии». Одна карточка хранится в комоде, под праздничной скатертью, на ней трое: бабушка совсем молодая, с короткой стрижкой, с тяжёлым маузером в большой деревянной кобуре, дедушка с орденом Красного Знамени и дядька в круглых очках, с бородкой клинышком. Про эту фотографию тоже нельзя никому рассказывать, потому что на ней какой-то «Лев Давидыч».
Ещё в комнате стоит огромный шкаф из тёмного дуба. Раньше здесь жил царский флотский офицер, один во всей огромной квартире! Теперь её разделили перегородкой, и получилось две: в одной живут Горские, а во второй, коммунальной, четыре семьи. Бабушка говорила, что офицера «пустили в расход». Что это значит, доподлинно было неизвестно. Толик думал, что офицера потратили, как бензин из топливного бака самолёта, чтобы мотор работал, непонятно только, как можно человека потратить, даже если он белогвардейская сволочь. А Серёжка сказал, что «в расход» – значит, всё. Расстреляли.
Всю офицерскую мебель из квартиры конфисковали, унесли в домком и красный уголок, но шкаф сдвинуть не смогли, больно уж тяжёлый. Шкаф украшен резьбой: здесь и дельфины, и якоря, и морские волны с барашками. А наверху – парусник, рвёт волны острым, как нос Буратино, бушпритом, птицы-паруса раздуты пузырями. Раньше, до красвоенлёта, Толик хотел стать моряком. Если бабушка разрешала играть в её комнате, то мог часами разглядывать резьбу и мечтать:
– Свистать всех наверх! Обтянуть такелаж! Приготовиться к повороту фордевинд…
Весёлые матросы ловко скачут по мокрой палубе, ветер швыряет горстями брызги в лицо, а Толик, в белом мундире и капитанской треуголке, смотрит в подзорную трубу, ища среди громоздящихся волн вражеский фрегат…
Здоровско было мечтать о море! Толик даже иногда жалеет, что он теперь лётчик. Хотя можно ведь стать морским лётчиком? Тогда будет всё разом: и синее небо, и синее море, и полёты наперегонки с краснолапыми чайками.
Вместо чайки у бабушки живёт ворона Лариска. Клетка стоит на столе, всегда отпёртая: Лариска пользуется свободой и гуляет по всей квартире. Смотрит, кто чем занят. Она не любит закрытых дверей: если увидит – подойдёт и начнёт лупить клювом, чтобы открыли. За это папа называет её «ревизором», а бабушка – «эскадронным старшиной».
Толик разложил на столе подаренный строгим дядькой из Дома пионеров журнал, стал водить пальцем по тонким линиям чертежей, но быстро запутался и расстроился. Может, папа поможет? Он сейчас у бабушки, они заперлись и о чём-то говорят целый час.
Только подумал – дверь бабушкиной комнаты скрипнула, открылась. Папа сердито сказал:
– Хватит долбить, дырку пробьёшь. Иди, гуляй.
В коридоре зацокали коготки: значит, Лариска отправилась на обход. Зашла к Толику, наклонила голову, проскрипела:
– Дрррянь, иррод.
– Сама ты дрянь. Дура.
Удивилась. Помолчала. Спросила совсем другим тоном:
– Дрруг? Горрох?
– Подлиза ты, Лариска. Правильно тебя бабушка Бухариным обзывает.
– Бухаррин – трроцкист! Прраво, дррянь! Горрох?
– Всё, всё, хватит орать, сейчас принесу.
Толик сходил на кухню, взял из жестяной банки горсть, высыпал горошины на пол перед вороной. Лариска одобрительно глянула блестящим глазом, застучала клювом по паркету.
Посмотрел на чертёж, вздохнул. Взял журнал, пошёл к бабушке.
Дверь осталась приоткрытой, и бабушка вдруг сказала громко:
– Илья, прекращай это слюнтяйство! Изволь определиться, с кем ты. Что за интеллигентские сопли, тьфу!
Толик замер: бабушкин голос был злым.
– Мама, вы не понимаете. Эта яровизация, обзывания «вейсманистами-морганистами»… Просто антинаучный бред! Гены не могут быть буржуазными или пролетарскими, поймите. Они были, когда никакого Маркса ещё не было. И будут, когда и память о нас исчезнет.
Бабушка молчала, яростно чиркая спичками. Спички ломались. Одна всё-таки выдержала, зажужжала огнём.
– Илья, у тебя жена и ребёнок, ты обязан взвешивать поступки. Наш путь – трудный. Ещё никогда человечество не строило коммунизм, мы – первые. Да, могут быть ошибки, потому что наощупь, часто по наитию, понимаешь? Чего ты добьёшься, если выступишь сейчас против Лысенко? Да и молод ты ещё, не академик. Ленин учил: шаг назад, два шага вперёд, надо переждать. Был бы жив твой отец…
– Был бы жив отец, он бы меня поддержал, – резко перебил папа. – И вообще, ему повезло умереть вовремя.
– Что-о?! Что ты несёшь?
– Да. Признайтесь, мама, что так и есть. Если бы он не умер в тридцать четвёртом, то разделил бы судьбу… Только сначала сказал бы этим тупицам всё, что думает. Что стало с вами, мама? Вы же ничего не боялись, пятнадцатилетней девчонкой в городовых стреляли, в Сибири не сгинули, по фронтам… Меня взяли в сыновья – вам сколько было тогда? И не испугались ведь! Что стало с маузеристом Соней, с Железной Горской? А со всеми нами? Дрожим, боимся – и кого? Малограмотных подонков. Воспитанием растений он занимается, идиот, осталось картошке политинформацию ежедневно читать, чтобы впятеро урожайность повысить. Яровизация! Средневековье! Ананасы в тундре, бананы на вечной мерзлоте! Мне нестерпимо, ужасно, стыдно кивать этому бреду. А вам, мама? Вам за меня не стыдно? Позор!
– Позоррр! – тут же откликнулась Лариска.
Толик молчал. Он никогда не слышал, чтобы папа так кричал на бабушку. Да и вообще, чтобы кто-нибудь смел повышать на неё голос.
Тишина – страшная, предвещающая беду, – затопила коридор. Толику вдруг стало трудно дышать. Выронил журнал и сполз по стенке на пол.
Бабушка заговорила совсем тихо:
– Илюша, сынок, умоляю тебя, послушайся Вавилова, езжай в командировку на Памир. Он мудрейший учёный, гений, мировое имя, ты ведь сам об этом говорил, плохого не посоветует. Поезжай, родненький, а тут пока всё уляжется, забудется. Разберутся, в конце концов. Время всех по жёрдочкам рассадит, как надо. Илюшенька… Хочешь, я вот сейчас на колени?
Толик с ужасом понял, что бабушка плачет. Вскочил, бросился к двери, распахнул, оттолкнул растерянного отца, закричал:
– Не смей её обижать!
Уткнулся в бабушкин живот, зарыдал.
Бабушка непривычно гладила Толика по голове жёсткой ладонью, шептала:
– Ну что ты, маленький, папа меня не обижает. Просто он правду любит, таким уж я его вырастила, дурака.
– Дуррак! – радостно подтвердила Лариска.
Город, лето
Мысли в голове грохотали мелкие и никчёмные, как дробь в консервной банке, сердце тоже молотило вразнос. Пока бритоголовая с чёрным чехлом в отставленной руке пересекала пустой зал кафе, Игорь успел подумать, что всё, и ещё – что так и не решил ничего с Елизаветой.
Конрад почувствовал смятение визави, резко развернулся навстречу опасности. Девушка остановилась и неожиданно улыбнулась. Протянула ладошку – пустую. Ни пистолета, ни ножа.
– Извините, что отвлекаю. Я Белка, фотограф.
Конрад поднялся, осторожно пожал крепкие пальцы, поклонился:
– Весьма польщён. Я Анатолий Горский, а это – мой добрый знакомый…
Игорь, разозлившийся на свои дурацкие страхи, перебил:
– Не помню, чтобы белки, суслики и прочие насекомоядные прославились на ниве фотографии. Что тебе нужно, девочка? Видишь же – взрослые дяди разговаривают.
Конрад посмотрел укоризненно, отодвинул стул, пригласил:
– Украсьте нашу замшелую кампанию. Позвольте угостить вас. Кофе?
Девчонка, ни капли не смутившись, мгновенно ответила:
– Двойной капучино, с карамелью.
Конрад пошёл к стойке. Белка крикнула вслед:
– Это… спасибо!
Игорь, всё ещё чувствуя раздражение, сказал:
– С воспитанием явный пробел. Ты всегда лезешь к незнакомым мужчинам? Не находишь это навязчивым?
– А ты всегда говоришь «ты» незнакомым девушкам? – парировала глазастая. – Не находишь это невежливым? И вообще, расслабься, ты мне неинтересен. Терпеть не могу таких: рубашечка беленькая, запонки фирменные, проборчик безукоризненный, а внутри – ноль. Зироу.
Дьяков аж замер от такого нахальства. Пока соображал, чем покрыть, вернулся Анатолий.
– Сейчас принесут ваш двойной с карамелью. Весьма польщён вниманием со стороны столь прелестной и, м-м-м, свежей особы. Чем мы с другом можем быть вам полезны?
«Ё-моё, Конрад её клеит, что ли?» – поразился Игорь.
– Ваш друг вряд ли, он ординарен, а вот вы… У вас удивительное лицо. Крайне интересное.
– Ну что вы, обыкновенное лицо пожившего человека.
«Да он краснеет! – мысленно присвистнул Дьяков. – Надо же, пушистый зверёк смутил нашего рыцаря мрачного образа».
– Нет, не обыкновенное, – нетерпеливо взмахнула рукой Белка. – Иначе с какого перепугу я бы бросила онлайн-конфу и понеслась к вашему столику? Мы готовим проект «Лики Города», а вы очень даже годный, фактурный тип. Я вообще считаю, что у стариков лица интереснее, чем у молодых. Каждая морщина, трещинка, пигментное пятно – как рана, нанесённая временем, понимаете? Шрам от удара клинком. Старики – они клёвые!
«Вот так-то, съел! – хихикнул про себя Игорь. – Пёрышки распустил, да забыл, что срок эксплуатации оперения вышел. Весь в шрамах, нанесённых косой. А в чьих руках коса – мы знаем».
Он смотрел в окно на мельтешащие машины и краем уха слушал, как Конрад договаривается с Белкой насчёт фотосессии.
Думал о том, что страхи часто оказываются глупыми. И надо постоянно работать – мозгами, душой, нервами – чтобы не уступить, не размазаться, не превратиться в комок бесформенной слизи под колёсами чужих механизмов. Хрен им, а не сдача бастиона. И напуганному неизвестно чем Савченко, и таинственным теням в подворотнях, и странным тайнам прошлого.
Прорвёмся.
Ленинград, май 1940
Последний школьный день перед каникулами тянулся, как резинка от трусов. Уже раздали табели успеваемости (у Толика «хорошо» по чистописанию, остальное «отлично», а у Серёжки – сплошь «посредственно»), так чего ещё? Но классная учительница теперь диктовала список литературы на лето.
Серёжка поскрёб пёрышком по дну опустошённой «непроливайки». Подул на перемазанные чернилами уставшие пальцы, толкнул друга локтем:
– Скорей бы уже, да? Сегодня запустим «Сталинского дракона»!
Толик чертыхнулся: от толчка рука поехала, и у «Чука и Гека» ножка последней буквы «к» убежала за край страницы.
– Ты чего, пихаешься, балбес? Не потерпеть?
Учительница опустила очки на нос. Постучала линейкой по столу:
– Кто там болтает, а? Тойвонен, Горский! Кто вам разрешил вместе сесть? Думаете, коли последний урок, так можно нарушать дисциплину? Встать!
Друзья, вздыхая, поднялись.
– Вы же будущие красноармейцы, должны иметь выдержку. Вот представьте: командир поставил вас в секрет, и что? Вместо дисциплины получится ерунда! Начнёте, как всегда, трепаться, и враги, белофинны либо самураи, вас заметят и застрелят, провалите боевое задание.
Друзья вспыхнули, Толик открыл было рот, но Тойвонен опередил:
– Да мы сами их первые застрелим! У нас «Сталинский дракон»! И кобура от нагана, и мотоциклетные очки…
– Перегрелся ты, Тойвонен, – покачала головой учительница. – Дракон у него. Может, у тебя и лягушка-царевна имеется, чтобы врагов заквакать до смерти? Марш на «Камчатку»!
Пылающий Серёжка поплёлся на заднюю парту под смешки однокашников.
Учительница дождалась, когда он усядется, и объявила:
– Всё, дети. Теперь вы не какие-то там первоклашки-несмышлёныши, а уже второклассники, взрослые люди. Встретимся осенью, хороших всем каникул, полезных и насыщенных.
Тойвонен всю дорогу до дома бурчал:
– Грымза она. Всё равно урок ведь закончился, так чего было меня на «Камчатку» слать? Ещё и лягушкой опозорила, сама она лягушка. Самураи меня в секрете поймают, как же…
– Ладно, не ной. Ведь каникулы! – перебил Толик.
Врезал другу по башке тяжёлым портфелем, сбил фуражку. И, хохоча, побежал мимо дурманящих кустов сирени, по залитой солнцем улице – в лето.
* * *
Дома суета, звон посуды, мама несёт на вытянутых руках дымящуюся кастрюлю. Сегодня бабушкин день рождения. В короткой жизни Толика этот праздник накрепко сплёлся с началом лета, поэтому – радостный. Вопреки занудным бабушкиным подругам с редкими седыми волосами, собранными в крысиные хвостики.
Вот опять – самая толстая распахнула красные руки, обслюнявила, засюсюкала:
– А кто это у нас такой синеглазенький? Большой какой вымахал! А стишки нам прочтёшь? Прочтёт, гляди-ка! Головушкой белой кивает, точно – Тополёк! Ну, куда ты? Дай хоть тёте Клаве на тебя полюбоваться, потискать холёсенького такого! А вот кому петушка на палочке, сла-а-аденького?
Толик отскочил к стенке, весь багровый. Демонстративно вытер слюни со щёк и строго сказал:
– Я вам не детсадовец какой, с бабками целоваться, я – второклассник! А петушка своего сами облизывайте, девчоночьего. Красвоенлёты такими не питаются, только шоколадом, да и то – горьким, настоящим.
Тётя Клава остолбенела, раззявила мокрый рот. Софья Моисеевна сердито сказала:
– Это кто тут старшим хамит, уши давно не оборваны? Ты чего меня перед боевой подругой позоришь? А ну, извинись немедленно.
Толик пробормотал что-то невразумительное, прошмыгнул вдоль стены под протянувшейся клещами бабушкиной рукой, спасая уши. Спрятался за шкаф, обиженно пыхтел, пока мама не позвала:
– Тополёк, ты где? Быстро руки мыть и за стол.
Примостился на край доски, положенной на две табуретки вместо лавки, – народу много собралось, стульев не хватало. Рядом с Серёжкой.
Друг сидел прямо, будто лыжную палку проглотил. Рубашка новенькая, парадная, руки в цыпках чинно сложены на коленях, волосы не вихрами торчат – прилизаны, а в уголках глаз – слёзы. Видно, тоже от матери досталось.
Толик наклонился к Тойвонену, одними губами спросил:
– Ты чего?
Серёжка не удержался, всхлипнул. Прошептал:
– А она чего? Я же не виноват, что не расчесать. Она меня под кран, да гребешком, чуть все волосья не повыдёргивала. Папка, нет бы защитить – ржёт.
Встал Артём Иванович, сосед по лестничной площадке, весь розовый, блестящий, приторный, как марципановый поросёнок с витрины Елисеевского.
– Дорогие товарищи и, тасазать, друзья! В этот чудесный майский день мы собрались по весьма, тасазать, выдающемуся поводу, чтобы, э-э-э, засвидетельствовать уважение, пронизывающее всех нас, э-э-э… к заслуженному со всех сторон товарищу соседке Софье Моисеевне Горской, имеющей счастье… то есть, это мы, имеющие счастье быть в наличии ейными соседями и, некоторые тут, даже соратники. Борцы с кровавым царским режимом кровавого Николашки, которые пролитою кровью своей… Большевичка, измученная царской каторгой. Тасазать, старая!
– Артём Иванович, ты ври, да не завирайся, – перебила бабушка. – Я, может, и старая, да партия позовёт – враз помолодею. Нынешним сто очков вперёд дам. Или дело говори, или уступи кому, у людей водка в стаканах скоро закипит, что твой самовар.
– Так я же про что? – розовый сосед превратился в багрового, достал платок и начал яростно протирать лысину. – Я про то, что большевичка наша Софья Моисеевна, может, и старая, с пятого года член, тасазать, а как женщина – может, и молодая! Ещё ого-го!
– Ого-го, кобылка Соня, – передразнила бабушка. – Совсем зарапортовался. Или в женихи набиваешься?
Гости захохотали, а Толик громче всех. Представил себе, как сосед встаёт перед бабушкой на одно колено и просит руки, а бабушка ему – подзатыльник: «Опять лампочку на лестнице выкрутил?».
Артём Иванович, уже даже не багровый, а синеватый, прохрипел, перекрикивая смех:
– Старая большевичка! Даже и вместе с товарищем Сталиным в ссылке! Так выпьем же за товарища Сталина!
Все разом перестали хохотать, подтянулись, и последний смешок Толика – не успел сдержать – прозвучал крайне неуместно. Бабушка глянула на внука сердито, подняла стакан с водкой:
– Это правда, мы с Кобой в Туруханском крае встречались. За Сталина – вождя мирового пролетариата и всей нашей революции!
Зазвенели сдвигаемые рюмки, стаканы и фужеры, гости разом заговорили, зашумели, зазвякали ложками в салатницах. Толик с Серёжкой хотели под шумок стащить сладкое и сбежать, но получили по порции судака с картошкой. Мама сказала:
– Никаких побегов, пока не съедите. Ещё салат, и только потом чай с пирожными.
* * *
Раскрасневшиеся взрослые, как всегда, разбились на компании по трое-четверо и говорили все одновременно, громко, каждый – о своём.
Только старший Тойвонен сидел один, глядел куда-то: то ли вдаль, то ли внутрь себя. Обморожение изуродовало щёки и лоб, сизая кожа собралась вечно мокнущими складками. На правой руке осталось всего два пальца, указательный да средний, и отец Серёжки будто постоянно показывал знак победы «V».
Толику разглядывать уродство было и стыдно, и неудобно, но удержаться он не мог, смотрел украдкой, охваченный сосущим чувством любопытства и ужаса.
Бывший командир теперь ходил в цивильном пиджаке с орденом Красной Звезды на лацкане: тёмно-рубиновые, словно свернувшаяся кровь, лучи, а на свинцовом поле – боец с винтовкой. Наконец старший Тойвонен очнулся, ухватил рюмку водки, зажал между пальцами, словно плоскогубцами, опрокинул, подмигнул мальчишкам:
– Что, скучно вам? Дуйте гулять.
– Мы не гулять! Мы «Сталинского дракона» запускать! – похвастался Серёжка.
– Дракона, значит. Сталинского.
Старший Тойвонен перестал улыбаться, опять упёрся взглядом в только ему одному видимое.
Мальчишки осторожно сняли со шкафа модель и бочком-бочком выскочили из квартиры.
* * *
Ключ от чердака из дворницкой стащить нелегко. Брать мальчишкам его не разрешалось, но придумали, как сделать.
Ахмед сидел за ободранным столом и, счастливо жмурясь, шумно прихлёбывал из блюдечка вечный чай. Серёжка остался у двери, а Толик подошёл ближе, чтобы максимально перекрыть обзор.
– Здравствуйте, дядя Ахмед! Как ваши дела, как здоровье? Что поделываете?
Дворник поставил блюдце, недоверчиво сказал:
– Щай пью, не видишь? Што опять натворили, шпана? Окно разбили, инян кутэ?
Горский изобразил удивление:
– Да с чего вы так подумали, дядя Ахмед? Я как октябрёнок интересуюсь, по-человечески. Шли мы с другом мимо и дай себе думаем: надо зайти, вдруг дяде Ахмеду помочь надо? Подмести, отнести.
– По-щеловещески! По-щеловещески драть вас надо, шайтан! Нет бы ущиться в школе – они по подвалам шлындают!
– У нас каникулы, – пискнул от двери Серёжка, но дворник продолжал:
– Кто футболом фортощку разбил третьего дня в щетырнадцатой? Думаешь, не знаю? Думаешь, Ахмед старый, из ума выжил? Я вот сещас дам метлой по жопе, увидишь, какой я выжил из ума!
Серёжка сзади кашлянул.
Толик понял сигнал, сказал:
– Всё, дядя Ахмед, не надо. Всего хорошего, мы побежали, уроки «ущить».
Друзья исчезли, а татарин всё продолжал ругаться:
– Шлындают и шлындают, шайтан! Щаю попить не дают.
Запыхавшись, забежали в парадную.
– Чего так долго? Я уж не знал, чего ему ещё болтать, думал, точно метлой врежет, – выдохнул Толик.
– Я не сразу нашёл, там же их куча на щите, да ещё боялся, что зазвеню.
– «Зазвеню», – передразнил Толик. – Тоже мне, колокольчик! Ладно, покажи, тот хоть?
Тойвонен раскрыл вспотевшую ладошку. На ней лежал тяжёлый ключ. Бечёвкой к ключу была привязана деревянная бирка. Химическим карандашом на ней было написало: «2-я парад. ч-дак».
– Тот! – выдохнули одновременно.
* * *
Название воздушному кораблю придумывали долго. Серёжка предлагал всякую ерунду: то «Витязь», то «Бронепоезд», а то вообще какой-то «Желеряб».
– Ты балбес, что ли? Где ты видел летающий бронепоезд? Что ещё за «желеряб» такой? – возмущался Толик.
– Бронепоезд здоровский. Крепкий, и огневая мощь, – оправдывался приятель. – А «желеряб» значит «железные ребята», то есть мы с тобой. Лучше ещё «Желеряб Тойгорский»! В смысле, Тойвонен и Горский.
Толик, подражая бабушке, когда она ругалась с печником, закатил глаза:
– Милостивый государь, это несусветная чушь! Ещё предложи «Чудоки Сертолики».
– Какие такие чудаки? – растерялся Тойвонен.
– «Чудесные октябрята Серёжа и Толик». Самолёт надо называть по-другому, вот как в газете пишут. «Сталинский маршрут». Или как лётчиков, «сталинский сокол».
«Орлом» нельзя: орлы – они царские, самодержавные. Но и «соколы», и «чайка» были уже заняты. «Вороной» решили не называть ни в коем случае – курам на смех, да и Лариска загордится, она и так балованная.
Наконец, остановились на «Сталинском драконе». Дракон был на картинке в одной из книжек, привезённых старшим Тойвоненом из Таллина. Летал он будь здоров, да и огнём пыхал не хуже бронепоезда.
Красной тушью написали название на крыльях из папиросной бумаги. Получилось не очень: тушь расплывалась, как кровь из разбитого носа, оттого и звёзды вышли кривые, безобразно толстые, но Толик решил не расстраиваться. Главное – есть самолёт! Размах крыльев – метр двадцать!
– Как думаешь, далеко полетит? – поинтересовался Серёжка.
– Конечно! Видишь, какой красавец получился. Да ещё и с крыши запустим.
– До Выборга долетит?
– До самой границы! Враги увидят бомбовоз с красными звёздами, да и разбегутся, кто куда.
Конечно, враги не такие дураки, чтобы бояться бумажной модели, пусть даже и «Сталинского дракона», но выдумывать было весело.
Осторожно, чтобы не зацепить хрупкие крылья, выбрались через чердачное окно на крышу. Железо дышало набранным за день жаром, взволнованно чирикали воробьи, а вечернее солнце даже задержалось на небе, чтобы полюбоваться историческим полётом.
Бросили гривенник – кому запускать. Выпала «решка». Тойвонен посерьёзнел, аккуратно, кончиками пальцев, обхватил тонкий реечный фюзеляж. Размахнулся…
Над двором летел белокрылый самолёт. Восходящие тёплые потоки поднимали его всё выше – над каналами и проспектами прекрасного Города, над аплодирующими тополями.
Восхищённые чайки приветствовали криками, трамваи внизу визжали от восторга. Золотой шпиль Петропавловки сиял, как маяк, показывая «дракону» правильный путь.
Эх, жаль, что папка не видит! Но он далеко, в экспедиции, в таинственной стране Памир.
Толик прикрыл глаза обнаружил себя в кабине: жаркий комбинезон, собачьи унты, пальцы в меховых перчатках крепко держат штурвал.
Валерий Чкалов сжал плечо, кивнул:
– Давай, Тополёк. Маршрут верный.
Белый самолёт превратился в точку – и исчез, нырнув в ярко-рыжую волну заката.
Город, лето
Толстое стекло витрины не пропускало звуков предвечернего города. Игорю принесли большую кружку кофе. Парок поднимался, извиваясь туманной змейкой.
Игорь смотрел, как у припаркованной возле кафе «газели» два брюнета в застиранных спецовках горячо спорят, машут руками и возводят очи горе, видимо, призывая в свидетели Всевышнего. На борту грузовичка с надписью «Памир» были изображены заснеженные горы, смотреть на которые в такую жару было особенно приятно.
Краем уха Игорь слушал малопонятную болтовню Белки:
– …а тут такие траблы: заблочился айпад. Чтоб блокировку снять, надо обнулить машину, а там морды и ролики бесценные. Мой айтьюнс и на макоси, и на винде отказывается даже смотреть на, прикиньте?
Конрад неуверенно кивнул. Кажется, он пребывал в изумлении.
– Ну, я сигналю френдам: котаны, хелп! И один такой, прошаренный: мол, бекап же делается автоматически айтюнзом каждый раз при подключении к компу. Сбрасываешь планшет, рекаверишь из бекапа – бинго!
Белка откинулась на стуле, обтянув маечкой соски, и счастливо захохотала.
– Всё это крайне любопытно, но нам пора… – начал Игорь.
Распахнулась, звякнув колокольчиком, дверь: договорившиеся наконец брюнеты, кряхтя, втащили в кафе огромный брусок льда в раскисшем картоне. Первый, пятясь, упёрся задом в стойку, спросил бармена, полуобернувшись:
– Куда его, начальник?
Брусок дымился и капал на пол.
– Вы чего, это не к нам, не сюда! – закричал очнувшийся бармен. – Вот чурки бестолковые!
– Э-э, «щюрка» не надо. Бумага смотри.
Первый грузчик, пыхтя, подставил колено под ледяную глыбу. Освободившейся рукой полез за пазуху, доставая мятые листки.
Глыба выскользнула и грохнулась на пол – будто рванул снаряд, разлетевшись синеватой шрапнелью.
Второй брюнет отскочил и отчаянно заорал, мешая свои и русские слова:
– Ман ба шумо гуфтам, номер дома другой. Что теперь, ахмак шумо! Мизбон Помир деньги теперь штрафует, чаханнам.
Белка вдруг дёрнула Дьякова за руку, завизжала:
– Что с ним?
Абсолютно бледный Конрад с остановившимся взглядом поднимался из-за стола. Слепо шарил рукой, роняя стаканы, сахарницу… Прохрипел чужим голосом:
– Мизбон Помир. Хозяин Памира.
Пошатываясь, подошёл к растерянным грузчикам, навис:
– Мин ана?
– Чего? Не понимай, – поразился первый брюнет.
Дьяков, замерев, смотрел в обтянутую светлым плащом спину. Взбешённый Конрад схватил брюнета за грудки, затряс, закричал:
– Мин ана? Шину исми?
Второй гастарбайтер промямлил:
– По-арабски. Совсем глупо. Спрашивает, кто он такой и как его зовут.
– Я откуда знай? – удивился первый грузчик.
Конрад бросил жертву. Перевёл тяжелый взгляд на второго таджика – тот попятился в ужасе, выставив вперёд руки и лепеча:
– Не убивай меня, дэв, я не знаю твоего имени.
Конрад посмотрел на разлетевшиеся по кафе куски льда. Нагнулся, поднял один к глазам. Прошептал:
– Ях. Лёд. Кругом один лёд. Холодно.
Белка рванулась первой, Игорь за ней. Девушка вцепилась в рукав неузнаваемого Конрада, трясла, просила сквозь слёзы:
– Ну хватит, хватит! Вам плохо? Что с вами?
Дьяков поддержал:
– Врача, может, вызвать, Анатолий Ильич?
Конрад ударил взглядом – Дьяков замер. Пошагал к витрине с висящей на рукаве девушкой, бормоча:
– Не Анатолий. Рамиль знает, кто я. Надо проломить лёд.
Стряхнул Белку. Ударил кулаками в витрину, та загудела, но выдержала. Схватил пустой стол с тяжёлой мраморной столешницей, поднял легко, развернулся – и швырнул.
Орал ошарашенный бармен, скулили от ужаса грузчики, в голос рыдала Белка, с чудовищным грохотом рушилось многометровое стекло.
Конрад дождался, когда упадут последние обломки витрины, и шагнул в получившийся проход.
Когда очнувшийся Игорь выскочил на улицу, она была уже вымершей. Голой, будто выжженная злым солнцем пустыня. Забежал в одну арку, в другую. «Колодец», тихий до звона в ушах: не треплются воробьи, не стонут дверные пружины.
Никого.
– Товарищ! Я здесь на проспект выйду?
Дьяков вздрогнул, обернулся. Брюнетка появилась невесть откуда: выгоревшая пилотка с зелёной звёздочкой, тонкая белая шея, торчащая из ворота мешковатой гимнастёрки, словно ландыш из ржавой консервной банки. Плечевой шов сползал чуть ли не до локтя, карабин оттягивал узкое плечо и казался неуместным, как швабра в руке художника. Кино снимают?
– Товарищ! Неужели трудно ответить?
Девушка нахмурилась, оттолкнула и скрылась в арке с обшарпанными боками.
Игорь сглотнул. Очнулся и бросился вслед – спросить о Конраде.
В прохладном туннеле пусто. В просвете – зелёный борт старинного грузового автомобиля.
– Красноармеец Дубровская! Почему опаздываем?
– Заблудилась. Виновата, товарищ старшина.
– Понаберут в армию всяких. Как ты в поле расположение части разыщешь, если в городе блудишь? В кузов, живо.
Хлопнула дверца. Рявкнул двигатель, синий дымок выхлопа проник в арку. Дьяков поспешил наружу: на проспекте – ни одной машины в час пик. И «полуторка» исчезла.
Игорь шагнул на мостовую, озираясь. Ерунда, бред. Куда же пропал Конрад? Куда делись машины, люди, птицы?
– Посторонись!
Дьяков едва успел отпрыгнуть на тротуар: вдоль проспекта плыл серый кит аэростата. Он был огромен, нетороплив и погружён в себя, словно набирался сил перед полётом. Левиафана удерживали за подвешенные к раздутым бокам верёвки одетые в шинели девушки. Второй от тупого носа шла красноармеец Дубровская – та самая, которая пять минут назад уехала в кузове «полуторки».
На её посиневших щеках проступали сочащиеся гноем пятна. Глазницы вдруг опустели, провалились, превратились в чёрные ямы.
– Посторонитесь, гражданин. Не препятствуйте движению.
Пожилой с четырьмя треугольниками в голубых петлицах подошёл вплотную. От него пахнуло гнилью. Сквозь разодранную гимнастёрку виднелось расползающееся исподнее в бурых заскорузлых пятнах.
Игорь отшатнулся к стене. Всхлипнул, рванул пуговицу и просунул ладонь под рубашку, пытаясь зажать пляшущее в бешеной скачке сердце. Замутило, жёлтая пелена застила глаза, всё вдруг закружилось, завизжало, как двигатели вражеского самолёта – того самого, который не должен был пропустить к городу аэростат заграждения.
– Дяденька, вам плохо? Дяденька!
По изнывающему, истекающему горячей асфальтовой вонью проспекту ползла бесконечная пробка. Светловолосая девочка лет семи теребила за рукав, заглядывала в глаза:
– Если плохо, надо в «скорую» звонить. Только у меня мобильника нет, мама говорит, что потом купит, с квартальной премии. Дяденька, это когда?
Игорь мотнул головой, глубоко вздохнул. Звон в ушах отступал, и сердце грохотало реже, но всё равно сильно, словно пыталось выбить дверцу грудной клетки. Вспомнил про ребёнка:
– Что «когда»?
– Ну, эта… Квартальная премия. В классе у всех мобильники, меня лохушкой дразнят.
– Не знаю.
– Жалко. А у вас есть мобильник? Айфон, наверное, – девочка горько вздохнула. – Будете в «скорую» звонить?
– Нет, не буду.
– А меня Настей зовут. Все уехали, кто на море, кто на дачу, я, как дура, одна в городе. Потому что денег нет, и дачи нет, и смартфона. Ничего нет, просто какой-то кошмар. А дяденька воронёнка спас. Он совсем подрос. Воронёнок, конечно, подрос, а не дяденька. Про дяденьку я не знаю, я его не видела больше. Мама говорит, что пора выпускать на волю, а я не хочу.
– Детка, ты меня заболтала вконец, – прохрипел Игорь. – Спасибо тебе за заботу, но у меня дела.
Пошагал к кафе.
– А воронёнка Конрадом зовут! – крикнула вслед девочка.
Игорь вздрогнул, обернулся.
Как ни странно, девочка не исчезла. Так и стояла: жёлтые косички с выбивающимися «петухами», белое платьице и сползший гольф на левой ноге.
* * *
Вернулся в кафе. Грузчики исчезли, уборщица собирала гремящие осколки стекла и обломки льда в ведро, бармен кричал в трубку:
– И ушёл! Витрина вдребезги. Да вызвал ментов, сказали – ждите…
Белка уже перестала плакать, хлюпала красным носиком. Спросила:
– Ты видел его глаза?
– Что? Да, глаза. Бешеные глаза.
– Да не то, – нетерпеливо махнула рукой девушка. – Они чёрные.
– Может быть, – рассеянно сказал Дьяков.
– Ты идиот? – рассердилась Белка. – Не заметил? Не знаешь, какого цвета глаза у твоего друга? Они были голубые, понял? Голубые! А стали чёрные! Как будто другой человек теперь.
– Другой?
Дьяков сел на стул, пробормотал:
– Теперь. Можно подумать, кто-то знает, кем он раньше был.
Рамиль
Памир, лето 1940
Вернуться засветло не успели. Чёрное небо накрыло закопчённым казаном, первые звёзды, заспанно помаргивая, украсили ночь.
Илья бросил поводья: в темноте лошадь лучше найдёт дорогу, если ей не мешать; шуршали камешки под копытами, впереди фыркал злой жеребец Рамиля, камертоном звякала сбруя, словно отвечая ей, хором трещали цикады.
Начался спуск. Илья откинулся назад, почти касаясь лопатками лошадиного крупа. Зашумел горный ручей, на берегу которого – лагерь экспедиции.
– Припозднились, начальники, – сказал пожилой таджик из обслуги. – Плов остыл. А подогретый плов совсем не то. Не то, эх… Обещали же к полудню, я старался, зря только девзиру потратил. Если бы знал…
– Хватит ныть, – перебил Рамиль. – Коней прими, забери образцы у Ильи Самуиловича.
– Я сам, – возразил Горский. – Опять в кучу свалят, потом не разобраться.
Прошёл в палатку, таща в руке тяжёлый сидор. Как всегда, после долгого пути верхом ломило спину, ноги не гнулись. Верно папа говорил:
– Хлипкая пошла молодёжь, мы в девятнадцатом в седле спали, в седле ели, а вы? Балованные да ленивые, до университета всего два километра пешком – нет, на трамвае норовят!
Папа университет так и не закончил: третьекурсника факультета астрономии и геодезии арестовали и сослали в Енисейскую губернию в девятьсот пятом. Побег, арест, снова побег… Илья родился в десятом году, когда отца поймали в очередной раз. И увидел его впервые только весной семнадцатого, в Петрограде…
– Чего в темноте?
Рамиль засветил керосинку, поставил на стол.
– Почту привезли из Сталинабада, утром курьер был, оказывается.
Илья оживился:
– Мне есть что-нибудь?
– Да, письмо.
Илья схватил конверт, обрадовался, узнавая почерк Наташи: округлые, неторопливые буквы, аккуратно рассаженные по строчкам.
– От жены? Счастливчик вы, Илья Самуилович! А мне опять ворох циркуляров из Сталинабада, «усилить, углубить, бдительность, процентовки».
Илья не ответил, сел на заскрипевшую пружинами койку, нетерпеливо разорвал конверт. Долго не мог выдернуть из-за пазухи завёрнутые в тряпицу очки – волновался.
Рамиль хмыкнул. Вышел, вернулся с медным чайником, захлопотал, доставая из тумбочки кружки. Поставил на стол расписное узбекское блюдо с жёсткими пластинками пахучего чучука и сладкими фиолетовыми луковицами, разломил пополам румяную лепёшку, обнажив нежную пенистую внутренность.
Илья в очередной раз перечитывал письмо, улыбался уголками губ. «Хоть повеселеет, – подумал Рамиль, – а то смурной, как туман в горах». Вслух сказал:
– Посыльный от геологов, они у ледника маршрутную съёмку заканчивают, им переезжать надо, а не могут снять лагерь. Что-то там у них нештатное произошло. Просят подъехать и палеонтолога взять, ещё бы радиофизика попросили. Где я им палеонтолога найду? Вот и сойдёте за искомого.
Горский рассеянно кивнул:
– Геологи, да. Что ищут? Золото, небось?
– Говорю же, – дёрнул подбородком Аждахов. – Они не ищут, а геологическую карту делают, масштаб семьсот пятьдесят тысяч. Падение пластов, границы слоёв, выклинивание пород – всё это хозяйство, а уж за ними следом поисковики пойдут. Формально у геологов свои начальники, но они далеко, а я власть, как-никак, потому просят подъехать. И вы заодно до ледника со мной прогуляетесь, всё равно у вас в задании этот маршрут есть. Там такая долина по пути, сказка!
Горский промолчал. Аккуратно сложил письмо, спрятал во внутренний карман пиджака. Снял было очки, но передумал, снова водрузил на место, заправил пружинистые дужки за уши. Подсел ближе, начал есть – деликатно, как всегда.
– Вот что значит воспитание, – произнёс Рамиль. – Видно же, что проголодались, а не спешите. Я велел плов на утро оставить, встанем до рассвета, дорога неблизкая.
– У меня кобыла, как бы это правильно… Засекается, да?
– Да, – кивнул Рамиль. – Я уже велел поглядеть. Может, перековать надо. А вам распорядился другую лошадь приготовить, до геологов путь трудный, отметка выше на четыреста метров.
Илья прожевал жёсткий кусок мяса, спросил:
– А что нам до этого ледника? Ещё тут многое не сделано. На дальнее пастбище собирались, овец смотреть. И шерсти образцы.
Горский не сдержался, поморщился.
– Надоело вам, Илья Самуилович?
– Какая разница, товарищ Аждахов, надоело или не надоело, делать надо. Просто это всё не моё.
– Ну да, я знаю. Вы ведь теперь у Шванвича. Но кафедры энтомологии нет, так что все вы нынче зоологи.
– А вы неплохо знакомы с нашей структурой, – пробормотал Горский. – Неожиданно для… человека вашей специальности.
– Ну, чего вы замялись, Илья Самуилович? Так и скажите – для энкаведешника, – ухмыльнулся Рамиль. – Вы же видите во мне если не матёрого чекиста, так минимум главного сексота на весь Бадахшан. Третий месяц вместе в горах, тут люди обычно быстро сходятся. Или если уж расходятся – так насмерть, навсегда. Я – всего лишь начальник экспедиции, поверьте, хоть и назначенный совнаркомом республики.
– Ну да, конечно. Исследователь в штатском. Или без «ис»? Не хочу я это обсуждать, лучше отчётами займусь, всяко полезнее.
Илья потянулся к сумке, но Аждахов перехватил руку, сказал тихо, но твёрдо:
– Подождёт работа. Нам скоро через Алагач идти вместе. А там… Чёрт-те что там: и туманы странные, и тропы нет – одно название. Целые караваны пропадали, бесследно – ни косточки, ни тряпочки, ни эха. Я-то знаю, я здесь всё облазил, и не раз. Нельзя туда без веры в напарника. Доверие – не пустое слово, а непременное условие.
– Да не нуждаюсь я в вашем доверии, – пробормотал Илья.
– А я в вашем – нуждаюсь, – с нажимом произнес Рамиль. – Чтобы знать, кто на том конце троса. Не затрясётся ли, не растеряется. Или перережет в острый момент – не горло, так верёвку. Я знаю, что вы – вавиловский.
– Конечно, знаете, – оскалился Горский. – У вас же всё расписано. Как там? Досье, папка, дело, верёвочки аккуратным бантиком завязаны.
– Ничего подобного. Просто есть знакомцы в Ленинграде, ещё с двадцатых. И геологи наши шепнули. Кстати, я и вашего отца знал – так, шапочное знакомство. Или, скорее, чалмистое.
– Какое? – удивился Илья.
Аждахов тихо рассмеялся. Потрогал чайник. Наполнил кружки, протянул Горскому.
– А вот. Он разве вам не рассказывал про Афганистан? Про двадцать девятый год?
– Он вообще мало что… про своё боевое прошлое. Что-то нельзя было, а что-то, наверное, и вспоминать не хотел.
– Ваш отец у афганского хана Амануллы в гвардии начальником кавалерии был. Никому и в голову не приходило, что он русский, за нуристанца принимали, есть такой народ в Афганистане. Беловолосые да голубоглазые, считаются потомками воинов Искандера Двурогого. Ну, Александра Македонского…
– Понимаю, – кивнул Горский. – Крайне любопытно!
– Ну вот, я тогда служил в особой бригаде Среднеазиатского округа, эскадрон стоял в Кушке. Должен был на гражданку уходить, на учёбу в Ленинград посылали, а тут стоп-машина: в Афганистане мятеж, Амануллу свергли, а он нашим считался, просоветским. Эскадрон – по тревоге, отпуска и увольнения отменили, через речку и сразу в бой. Примаков нами командовал, Виталий Маркович. Вызывает меня, даёт поручение: отобрать два десятка надёжных ребят, местных, таджиков в первую голову. Форму красноармейскую сдали, в халаты да ичиги облачились, бойцы – в паколях, это такие бескозырки местные, из шерсти, но без ленточек. А мне, как командиру, зелёную чалму выдали. Будто я хаджи, совершивший паломничество в Мекку.
Аждахов фыркнул, покачал головой. Глотнул из остывшей кружки, продолжил:
– Ребята засмеяли: всё, говорят, у тебя, Рамиль Фарухович, есть для счастья, и должность комэска, и орден Красного Знамени, и Красная Звезда Бухарской народной республики, а вот зелёную чалму только сейчас выслужил. Ну, я натурально разозлился, чалму – в мешок, тоже паколь надел. Пошли. Ночами, кишлаки стороной обходили.
Всякое было: война кругом, все против всех. Дошли до точки рандеву, осталось нас уже восемь. А там – засада. Как начали из пулемёта. «Льюис» – машина серьёзная, коли в умелых руках, да. Грамотный, гад – положил нас на тропу, голову не поднять, не уползти никуда. И орёт по-пуштунски: сдавайтесь, кяфиры, тогда ждёт вас лёгкая смерть, а иначе кишки вытащим и на башку намотаем. Ну, думаю, всё, двенадцать лет воевал, устала моя смерть кругами ходить, пора и честь знать. Ребятам говорю: сейчас встану – и гранатами, а вы прыгайте за камни. Может, и повезёт кому.
Рамиль вновь глотнул чаю, достал портсигар, раскрыл. Протянул Илье:
– Угоститесь?
– Благодарю, не употребляю, – нетерпеливо дёрнул подбородком Горский. – А дальше что?
– А дальше… А дальше этот пулемётчик орёт по-русски. Даже, прямо скажем, совсем по-русски, ни с чем не перепутаешь. Мол, такие-сякие-немазанные, хватит шептаться, сдавайтесь, или всем полный и окончательный кирдык. Ну, он короче сказал и внятнее. Потом спохватился и уже по-пуштунски повторил – менее доходчиво, конечно. В этом смысле пуштунская речь не в пример беднее русской, стоит признать. Тут уже я ответил на языке Пушкина и Ломоносова: мол, что ты, гад, творишь, по своим шпаришь, что по фанеркам. Пулемётчик явно озадачился, не ожидал такого поворота. И спрашивает: если вы, мол, свои, то какого хрена в неправильном головном уборе?
Меня тут зло взяло. Я в восемнадцатом на Туркестанском фронте бился, был у нас один боцман, чудом его в пустыню занесло. Боевой, Цусиму прошёл. Усы – двенадцатидюймовые, честное слово, не вру. Вот он меня, сопляка ещё, обучил всяким многопалубным конструкциям, от малого шлюпочного загиба до аврально-полундрового раскардаша. Ну, я со злости и выдал – и про пулемёт, и про пулемётчика. Про горы, так сказать, и долины, а также их родственников обоего пола. А отдельно – про головной убор, который кому-то приспичил. И как этот головной убор должен выглядеть. Характерной такой формы должен быть, знакомой любому, имеющему опыт половой жизни. Закончил – тут тишина, прямо благоговейная. Кричу: чего, мол, замолчал, снайпер? А он так уважительно: да я запоминаю. Силён ты, конечно, друг, но шапочку предъявить надобно. И показывает из-за камня… Тьфу ты! Зелёную чалму. Я себя по лбу хлопнул, из мешка такую же вынул, помахал. Так что пришли к консенсусу.
Аждахов замолчал. Улыбался, покачивая головой, воспоминания ещё бродили по лицу.
– А причём тут мой отец? – спросил наконец Горский.
– Как это причём? Так он и был тем самым пулемётчиком. Он из Кабула вывез ящики с чем-то крайне ценным. Тоже нахлебались ребята: их всего трое осталось, и все пораненные. Ну, выбрались мы к своим, а там уже самолёт из Ташкента за вашим отцом прилетел. И ещё раз мы в тридцать втором встретились, он нам спецкурс читал в Ленинграде.
Аждахов вновь потрогал медный бок чайника.
– Пойду, подогрею на костре. А вы начинайте собираться. Наган не забудьте.
– Странное дело, – пробормотал Илья. – Никогда не видел столько оружия в научной экспедиции. Зачем?
– А затем, что места здесь не просто дикие – самые басмаческие, скажу прямо, места. Ибрагим-хан тут долго держался, всё никак выковырять не могли. Пока не догадались границу открыть и позволить уйти ему в Афганистан вместе с самыми ярыми сторонниками, их семьями и скотом. Да всё равно, многие остались. В какой кишлак ни зайдёшь – обязательно на бывшего юзбаши какого-нибудь наткнёшься. Такие дела, Илья Самуилович…
Рамиль взял скрипнувший чайник и вышел вон. Горский смотрел на огонёк керосинки. Молчал.
Где-то. Когда-то.
Создание было совершенно изумительное: с полупрозрачными крылышками, крохотной головкой и тонкими ножками балерины.
Оно сидело на моей груди и покачивалось под ветерком, словно яхта, нащупывающая парусом нужный галс.
Я боялся дышать, но не выдержал – раскашлялся. Бабочка (Да! Я вспомнил имя создания!) вспорхнула испуганно, бросив на меня осуждающий взгляд. Захлебываясь кашлем, я поднялся и сел. С плаща хлынули прозрачные осколки – то ли стекла, то ли льда.
Вокруг был раскалённый солнцем камень – но не горный, дикий и вольный, а обтёсанный, дисциплинированный и принужденный к рукотворному порядку. Это был не Памир. Это был Город.
Передо мной качались зелёные одежды кустов. Стали возвращаться звуки и запахи, больно било прямо в мозг нефтяным, тягучим, настойчивым. Барабаны рокотали из тысяч радиоприёмников в ритме волнующегося сердца.
В голове сбились в комок разговоры о диковинных вещах. Голос брюнета с аккуратным пробором, его испуганные глаза. Какая-то девушка, почему-то обритая наголо, словно в послевоенном детприёмнике – но ухоженная, непуганая. Даже, пожалуй, красивая.
Странное чувство узнавания настигло меня: такое уже случалось. Я (кто – «я»?) в неизвестном месте, в неопознанном времени. Но вот именно это ощущение потерянности было застарелым, навязчиво знакомым и одновременно нереальным, словно фантомные боли калеки.
Калеки.
Фаруха называли «хаджи»: будто бы в молодости он совершил паломничество в Мекку, но на обратном пути афганские разбойники разграбили караван. Фарух, тогда молодой, искрящийся силой, не пожелал покорно отдавать последнее. И ему отрубили ноги.
Так он рассказывал о себе сам. На самом деле ноги ему оторвало русской бомбой при обороне Ташкента, но об этом лучше было не распространяться. Фарух с глиняной чашкой для подаяний сидел в тени карагача, недалеко от резиденции генерал-губернатора, которую все называли «домом Кауфмана». Если ты собираешь милостыню рядом с домом большого русского начальника, гораздо разумнее слыть искалеченным хаджи, а не бывшим аскером кокандского хана.
Первые воспоминания – об этом: я сижу в пыли, на моей шее верёвка. Колючая, затянутая туго, раны от неё не заживают, мухи разъедают язвы. А другой конец привязан к поясу Фаруха-хаджи. Он мой хозяин, с мальчиком на верёвке подают больше.
Подходит русский. Огромный, усатый, потный, в белой тужурке и с шашкой в ободранных ножнах. Его все боятся, даже Фарух немного.
– Отставить! – гаркает городовой. – Установления нарушать? Почему верёвка? Сей секунд снять!
– Ай, твоё благородие, да продлит Всевышний твои счастливые годы, – бормочет старик. – это Рамиль по прозвищу Аждах, несчастный сирота. Пророк, мир ему, да будет крепок хрустальный свод его могущества, завещал правоверным заботиться о вдовах и сиротах. Подходящей вдовы не нашлось, вот и приходится довольствоваться тем, что я пекусь об этом грязном мальчишке.
– Мне твой Магомет не указ, – бурчит русский. – Чай, не околоточный надзиратель. Сними, говорю, бечевку с пострелёнка. Что он тебе, зверь обезьян?
Фарух-хаджи таращит честные глаза и поясняет:
– В него вселились дэвы, мальчик не помнит себя. Вот и привязываю, чтобы не утоп в арыке. Либо, избавь Милосердный, не попал под копыта верблюда или колесо арбы.
Фарух протягивает русскому серебряный гривенник.
Городовой сморкается, прижав одну ноздрю пальцем. Говорит мне:
– Смотри тут, не балуй. Не положены никакие дэвы вблизи правительственного присутствия.
И уходит, я смотрю вслед.
Мимо продавец щербета катит свою тележку. В медном тазу оплывает на солнце кусок великолепного, белоснежного льда – такого же, как на вершинах Памира…
– Вам плохо, дяденька?
Я вздрагиваю и тру шею. Язвы давно зажили. Или их не было никогда?
Я сижу на скамейке. Напротив стоит смутно знакомая светловолосая девочка лет семи.
– Ой, я вас узнала! Вы дяденька-волшебник, вы мёртвого птенца оживили! А я Настя. Помните? Во дворе на Петроградке, я к подружке пришла, а её мама не выпустила гулять. Вспомнили?
Я глажу гремящие виски и отвечаю:
– Конечно, помню. Я всё помню. И то, чего не было, тоже.
Памир, лето 1940
По широкой тропе кони шли бок о бок. Рамиль беспрерывно травил байки из своей богатой биографии, но Илья слушал невнимательно, думая о своём, и лишь рассеянно кивал – не всегда к месту.
– …меня и продали. А куда деваться? По всему Бадахшану скот дох, эпизоотия. Жрать стало нечего, выбор небогат: ребёнок всё равно обречён, или с голодухи помрёт, или деньги за одного выручишь, да других детей накормишь. А я – от младшей жены сын. Теперь понимаю, что интриги там кипели покруче, чем в османском гареме. Словом, оказался я у бродячих работорговцев. Да-да, дело это было и при царизме запрещённое, но имевшее место. А потом меня перепродали нищему, но это уже в Ташкенте произошло. Профессиональный нищий – величина была в дореволюционном Туркестане, у них даже своя тайная организация имелась, вроде нынешних профсоюзов.
Рамиль рассмеялся, но глаза почему-то оставались грустными.
– Потому и говорю: революция мне всё дала. Так бы сдох в какой-нибудь яме с бараньей требухой, бродячие собаки мои кишки по кустам бы растащили. Ан нет, вырос Рамиль Аждахов человеком. Теперь с образованием, при важном деле, как-никак. Потому, говорю, моя это власть – до самых печёнок, до шрамов моих, до пули, что возле позвоночника застряла. Не стали эскулапы её вырезать – поостереглись, чтобы калекой меня не сделать. А то, что перегибы случаются, всяческие головокружения от успехов и торопливый суд – так что же делать? Мы первые в истории человечества, примеров для подражания нет. Так, Илья Самуилович?
– А? – очнулся Горский. – Знаете, вы сейчас прямо слово в слово, как моя приёмная мать, сказали. Мол, мы первые, а потому лес надо рубить непременно так, чтобы завалить щепками всю округу до неба. Не будем об этом, хорошо?
Подъём был трудным. Тяжело вздыхали кони, скользя и спотыкаясь на зыбкой тропе. Часто приходилось спешиваться, таща испуганно фыркающих лошадей под уздцы; тихий шорох скатывающихся камешков грозил превратиться в грозный рокот обвала.
Аждахов снял выгоревшую фуражку с тёмным пятном от звездочки на околыше, вытер мокрый лоб. Подмигнул:
– Ничего, зато сейчас настоящую сказку увидите. По-таджикски называется «Дом Зуммурад», изумрудная западня.
– Западня? – удивился Горский.
Рамиль не ответил, ругнулся на жеребца, пытающегося вырвать повод:
– А ну, чертяка, не балуй! Ишь, злится он!
Поднялся в седло, пришпорил. Горский замешкался, возясь с перекрученным стременем, догнал Аждахова не сразу. Последний поворот. Илья еле протиснулся между камнями, ударившись коленом, чуть не оторвав седельную суму, посмотрел вниз – и едва не вскрикнул.
Среди голых, пышущих чёрным пламенем гор разлеглась, словно гурия из мусульманского рая, чудесная долина. Изумрудная трава самого сочного оттенка покрывала пространство между хребтами, вспыхивали драгоценными камнями красные и жёлтые цветки. Причудливой змейкой вился ручей, то исчезая в зелени, то сверкая хрусталём…
Кони повеселели, чувствуя привал и водопой, прибавили сами, не дожидаясь пяток под бока.
Илья вдыхал аромат свежей травы, улыбался. Маленькие чёрные пчёлы трудолюбиво гудели, обихаживая цветы, и так было хорошо – слов нет. Хотелось упасть в мягкий ковёр, непременно на спину – и смотреть, смотреть в сапфировое небо, украшенное хлопковыми комочками облаков.
Когда остановились у ручья, Илья ретиво спрыгнул, шагнул к траве.
– Стоять! – громко крикнул Рамиль. – Не шевелиться.
Он резко нагнулся, чуть не выпав из седла, и хлестнул плёткой по земле рядом с ногами Горского.
Илья поднял вопросительный взгляд, краем глаза успел заметить, как в траве мелькнуло что-то, неотличимое по цвету – и исчезло.
– Не любят тут гостей, – непонятно сказал Рамиль. – Давайте обратно в седло. Через ручей, вон туда, на песок.
– Так в чём… – начал было Горский, но Аждахов только махнул рукой: потом, мол.
Кони вошли в прозрачную неспешную воду и разом опустили головы, пробуя её мягкими губами. Напились, пошли, разбрасывая сверкающие брызги, вынесли на песчаный берег.
Аждахов пояснил:
– Место тут странное. Казалось бы, райская долина: трава, вода, а люди не живут, так?
– Я заметил, – кивнул Илья. – Не понял только, почему.
– Потому что проклята эта долина, очень давно проклята, человеку здесь и суток не прожить.
– Ерунда какая! – вскипел Горский. – Что значит проклята? Вы что же, поддерживаете исламские заблуждения, сказки про этих, как их… Шайтанов? Или дэвов?
Спутник рассмеялся:
– Памирцы к жителям равнин и их верованиям относятся с иронией. Здесь небо гораздо ближе, значит, ближе и бог. Памирцы считают, что знают о высших силах много лучше, чем обитатели пустынь, верящие в своего пророка. Эта легенда появилась в Бадахшане на полтысячелетия раньше ислама. Хотя в ней явно слышны иудейско-христианские мотивы. Возможно, что к её созданию приложили руку несторианские проповедники. Змеи здесь, каких нигде в округе нет. Маленькие, вершков пять. Красивые! Обычно ярко-зелёные, но, говорят, и красные встречаются, и синие, и перламутровые. Непонятно только, кто говорит: укусы этих малышей смертельны, нападают они неотразимо, и у встретивших змей выжить шанса нет. Человека раздувает, что твой шар. Бредит, чертей видит, несколько часов – и всё, оформляй протокол. Кровь словно нефть становится, густая, чёрная. Сам видел. И никак от них не уберечься, ещё никто тут ночь не пережил, хотя многие пытались.
Горский недоверчиво посмотрел на Рамиля:
– Вы меня извините, конечно, но это ерунда какая-то. Перламутровые змеи, неизвестные науке, – так надо здесь непременно задержаться, отловить образцы. И вообще, змеи шума не любят, да и сами редко нападают, если не провоцировать. Или вы меня разыгрываете? Местные сказки пересказываете?
Аждахов вздохнул:
– Уважаемый, мы уж сколько знакомы? Я разве похож на ковёрного или комика какого? Это Памир, друг мой. Тут тайн и загадок ещё надолго хватит.
– Так, – решительно сказал Горский. – Значит, непременно надо здесь разбить лагерь, всё изучить. Вам цель нашей экспедиции напомнить? Научное изучение новых возможностей экономического роста социалистического Таджикистана! Вот она, эта возможность, перед нами. Пастбище-то какое! А пчеловодство? Да тут и курорт можно устроить, не хуже, чем в Пятигорске.
– Хорошо, хорошо, – усмехнулся Рамиль. – Только не в этот раз. Нас геологи ждут, не забыли? Заметили, что тропа почти неторная здесь? Местные долину за пятнадцать вёрст обходят, кружной дорогой. Я из немногих, кто тут бывает, да и то не каждый год. И не ночевал ни разу. Не хочется, знаете ли, проверять правдивость легенды ценой своей жизни.
– Не ожидал от вас, – сердито бросил Горский. – Современный человек, коммунист – и такое невежество.
Рамиль вновь рассмеялся. Вскочил, отряхнул колени.
– Мне нравится смотреть, как вы злитесь. Наверное, вы матёрый боец в научных диспутах. Но нам пора ехать, чтобы успеть к геологам засветло.
Кони шагали по еле заметной тропе неспешно, вздыхали – видимо, не хотели так быстро покидать эту чудесную долину, прихотливую игрушку природы.
Рамиль высвободил левую ногу из стремени, ловко перекинул через седло, усевшись боком, лицом к собеседнику. Опёрся локтем на торчащий из кобуры приклад карабина.
– Ну так что же, будете слушать страшную сказку об Изумрудной Западне?
– Только если из вежливости, – буркнул Горский. – Потому как мне кажется, что вы наговариваете на это волшебное место. Вы только поглядите, какая благодать! Луга так и заманивают прилечь отдохнуть, пчёлки жужжат.
– Пчёлки жужжат, – подхватил Рамиль. – А птицы не поют, заметили? Они тут не гнездятся, потому как милые змейки уничтожают кладки яиц. Да и пчёлки ваши – дикие, неокультуренные и… Ай! – Аждахов вдруг вскрикнул и схватился за щёку. – Укусила, зараза!
– А вы не ругайтесь на насекомое, – развеселился Горский. – Обозвали дикой – получите.
– Смейтесь, смейтесь, – пробормотал начальник экспедиции. – Разбарабанит щёку, слягу с лихорадкой – сами будете путь в горах искать. А кстати! Вы ведь к нам командированы из отдела Шванвича, то есть энтомолог. Вот и повлияйте на своих подопечных! Прикажите. Пусть пчёлы, комары, слепни и прочие insects нас не беспокоят. Лишь бабочкам дозволяется радовать взгляд да светлякам – указывать путь в ночи.
– Сколько говорить: я не энтомолог в обычном понимании, – вздохнул Горский. – Я дрозофилист.
– Так дрозофила ваша разве не насекомое?
– Она ценна не этим. Томас Морган первым понял достоинства плодовой мушки для генетических исследований: быстрая смена поколений, малое число хромосом… Впрочем, – спохватился Илья, – мне не стоит об этом говорить. Сейчас, как вы знаете, я занят другими исследованиями, а генетика забыта.
– Да хватит вам, Илья Самуилович! Я уже объяснял, что не имею никакого отношения ни к карательным органам, ни к спорам вокруг учения вейсманистов-морганистов. Вот ответьте мне на один вопрос. Я, конечно, человек от науки далёкий, но кое-что читал из доступного широкой публике. Скажите: есть ли у человека такие гены, что заставляют его по-свински поступать с себе подобными? Жажда наживы, унижения и убийства братьев своих – это наследственное свойство человеческого рода? Ведь если так, то возникает сомнение в будущем Homo sapiens. Какой может быть коммунизм из такого человеческого материала – жадного, злобного, агрессивного? Или цель большевистских учёных в этом и заключается: обнаружить дурные гены, да и удалить их чёртовой матери, как хирург отрезает гангренозную конечность, чтобы спасти организм?
– Ничего подобного, – решительно заявил Горский. – В чём я абсолютно согласен с марксистскими классиками, так это в том, что дурные наклонности людей формирует отнюдь не набор хромосом, а отравленная предрассудками общественная среда. Стоит изменить её – изменится и человек.
– Ой ли! Послушайте теперь памирскую страшную сказку.
17. Легенда о Дом Зуммурад, или Чешуя Ангела
Ангела звали Конрад. Его лицо было белоснежным, и белыми были крылья и одежды его – такими же безупречными, как помыслы. Всевышний, создав Эдем, назначил ангела садовником и охранителем.
Конрад заботился о каждой травинке, каждом деревце в райском саду. Это он помогал Адаму выбирать имена для зверей; это он расчёсывал волосы Еве и украшал их невиданными цветами; он уговаривал ночных птиц петь тише, чтобы не тревожить нежный сон первых людей, которых возлюбил всем сердцем.
То, что должно было случиться, произошло. Конрад отправился в дальний уголок Эдема – туда, где трудолюбивые маленькие чёрные пчёлы наполнили соты янтарным мёдом, чтобы угостить им любимицу Еву.
Когда он вернулся, то не нашёл своих подопечных. Всевышний изгнал их.
Конрад растерянно бродил среди райских деревьев; теперь они зря плодоносили, и зря красивые птицы пели волшебные песни – никто не слышал их. Тогда ангел обратился к Создателю:
– Отче, зачем Ты позволил свершиться злу? Теперь люди познают тяжесть бессмысленного труда, обман и разочарование, теперь Ева утратит юную прелесть, морщины изуродуют её прекрасное лицо, персиковая кожа её иссохнет и станет подобной старой змеиной, и синие озёра глаз её расточатся слезами.
– Я дал людям главную ценность – свободу воли. Они сами выбрали страдание, и я не собираюсь лишать их права на глупость, – ответил Всевышний.
– А я? В чём смысл моего существования теперь, когда Эдем осиротел без своего главного украшения? – горько спросил ангел.
– У тебя же остался сад, и бабочки, и райские птицы, так чего же тебе ещё нужно? – удивился Господь.
– Я хочу получить то, что Ты дал людям – право выбора.
– Оно всегда было у тебя, я создал этот мир свободным, потому что свобода и есть главная ценность, единственный смысл существования.
Тогда Конрад обошёл Эдем и попрощался с каждым стебельком, с каждой тварью и цветком. Расправил крылья и полетел искать тех, ради которых жил.
Он нашёл их.
По дыму пожарищ, по крикам и стонам, по запаху гниющих трупов. Люди убивали друг друга ради куска хлеба, ради власти, ради забавы; люди жгли дома, вытаптывали засеянные поля и обильно поливали пропитанную потом землю своей и чужой кровью.
Лик ангела почернел – может быть, от копоти, а может, от горя. Он отчаялся, увидев, в каких чудовищ превратились его любимцы. Но тут Конрад заметил двух прелестных младенцев, мальчика и девочку, играющих человеческими костями среди смрадных развалин, и лица их были чисты, а души невинны.
Тогда ангел забрал их и отнёс высоко-высоко, в спрятанную от всего мира горную долину. Конрад засеял её изумрудной травой и плодоносящими деревьями, семена которых выкрал из Эдема; волки согревали детей прохладными ночами, а горные козы спускались со скал, чтобы накормить своим молоком.
Прошло время. Дети выросли и родили новых детей, долина наполнилась смехом и весёлыми песнями.
Конрад старательно украшал долину, делая её всё чудеснее: выращивал цветы, заботился о птицах с разноцветным оперением и отгонял тяжёлые снежные тучи. Чтобы детям было с чем играть, а женщинам – чем наряжать себя, Конрад разыскивал в горах сверкающие на солнце камни – сапфиры и изумруды, кристаллы горного хрусталя и нежно-сиреневые, как ранний рассвет, аметисты.
Он не мог вновь сделать людей бессмертными, но смог сделать жизнь их долгой, счастливой и полной радости; когда приходил срок – старики прощались с правнуками и тихо засыпали, не зная мучений и боли.
Однажды Конрад нашёл и принёс в долину особенно красивый изумруд – большой, как кулак мужчины, и играющий светом, как обломок льда. И тогда люди заспорили, кому он должен достаться. Они вдруг принялись ругаться и толкать друг друга.
– Не надо ссориться, дети мои, – попросил ангел. – Я сейчас же отправлюсь в горы и разыщу много таких камней, чтобы досталось всем.
И улетел.
Но люди продолжали спорить: каждый захотел владеть лучшим и единственным, чтобы отличаться от остальных.
– Этот изумруд прекрасен, как моя женщина – заявил здоровяк. – Я подарю камень ей, и моё ложе станет жарким от любви. А кто не согласен, тому я пробью голову и швырну тело в ручей.
– Нет, – возразила юная девушка. – Зачем твоей старухе драгоценность, если её молодость навсегда растаяла, как весенний снег? Отдай изумруд мне, и я подарю тебе свою девственность.
Тогда молодой парень, влюблённый в девушку, сказал:
– Глупо отдавать свою любовь всего лишь за один камень! Я отберу все сапфиры и аметисты у детей и женщин долины, чтобы бросить их к твоим ногам!
– Это хорошо, – обрадовалась девушка. – Потому что только я достойна всех богатств мира, но изумруд мне тоже хочется получить!
Тогда парень набросился на здоровяка и убил его, а женщина здоровяка вцепилась в волосы девственницы, и они обе скатились в ручей и захлебнулись там; все дрались со всеми.
Когда Конрад вернулся в долину, то увидел лишь трупы.
Три дня и три ночи он оплакивал своих детей; сердце его окаменело, а душа сгорела, отчего дыхание стало огненным; белая кожа его почернела вся, как раньше лицо, и покрылась чешуёй.
Только крылья остались такими же белыми, как и прежде, потому что в нём оставалась малая толика Веры и Надежды.
Тогда Конрад взмахнул крыльями и полетел к Богу.
– Зачем ты предоставил людям свободу? – спросил бывший ангел.
– Это был мой выбор, – ответил Создатель.
– Так нельзя было делать! Неразумное дитя выберет яркое, но вредное вместо скромного, но полезного, потащит в рот кусок стекла, презрев кусок хлеба, и будет стремиться к дурному и запретному вместо хорошего и общепринятого. Нельзя давать свободу воли тем, кто не различает добро и зло. Как только я оставил людей одних, они убили друг друга из-за сущей ерунды, из-за никчемного камня!
– Это был их выбор, – ответил Создатель.
– Я пытался спасти людей от греха, я возвёл стены неприступных гор и сделал непроходимыми снежные перевалы, чтобы им не у кого было научиться плохому, – вскричал ангел в чешуе. – Видит мироздание, и видишь Ты, Отче: я желал им только хорошего. Но мой труд оказался напрасным!
– Это был твой выбор – и твоя ошибка. Ибо, лишая их возможности познать зло, ты лишил их возможности отличить зло от добра, – ответил Создатель.
Горько возрыдал тогда бывший ангел, крылья его вспыхнули чёрным пламенем и обратились в серый пепел, потому что исчезли в нём Вера и Надежда, а одной Любви недостаточно для полёта.
И рухнул с небес покрытый чешуёй разочарования бывший ангел, и разбился о ледяной поток между мрачных горных хребтов.
Прознав об этой истории, жадные люди пытались проникнуть в Изумрудную Долину, чтобы обогатиться, собрав разбросанные по траве драгоценные камни. Но сапфиры и рубины превратились в маленьких разноцветных змеек, жалящих насмерть.
Все забыли Конрада – ангела, любившего людей больше всего на свете и пытавшегося уберечь их ото зла.
И только иногда, когда безлунная ночь накрывает Памир чёрной кошмой, чабаны слышат его рыдания и молятся всем богам одновременно, умирая от ужаса…
Где-то. Когда-то.
Умирая от смеха и замирая от ужаса. Постовой свистел, и его трель металась между кустами, пытаясь настичь нас. Ударилась в плакат «XX лет Рабоче-крестьянской Красной армии» и отстала.
– Ты с ума сошёл, нельзя же так! Поймают, оштрафуют и пришлют в техникум грозное письмо, – сказала я, задыхаясь от еле сдерживаемого хохота.
– А ещё в местком, комитет комсомола и мне в редакцию, – подхватил Жорж. – Тебя выгонят из Художки за поведение, несовместимое с высоким званием будущего художника и педагога, а меня – вообще отовсюду. Давай сюда!
Он потащил меня в подворотню. Потом мы перелезали через какие-то заборчики и бежали сквозь каменные кишки дворов Петроградки, распугивая кошек. Милицейских свистков давно не было слышно, но мы уже не могли остановиться.
Ветку я не выронила. Когда остановились отдышаться под низкой аркой, он спросил:
– Танюшка, оно хоть того стоило? Я не зря рисковал и нарушал общественный порядок?
Его глаза блестели, разгорячённое от бега тело было так близко. И пахло потом – терпко, завораживающе.
Я спрятала лицо в мелких благоухающих цветках. Прошептала:
– Прекрасная сирень, Жорж. Но всё-таки не надо было…
– Не надо было что?
– Рисковать. И нарушать.
Он стоял очень близко. Никогда раньше так близко он не стоял. От него шёл жар, как от бабушкиной печки, и жар проникал в меня, плавил; почему-то хотелось плакать, но плакать сладко и светло.
Георгий молча обнял меня, прижал. Я вся спряталась между его рук, но он всё-таки отыскал губы, и это было так…
Страшно, удивительно и прекрасно одновременно – как прыгать с парашютной вышки в парке Двадцатилетия Октября.
Я откинулась, опёршись лопатками о шершавую стену, – она внезапно оказалась обжигающе ледяной. Ужасно, невозможно холодной. Я вздрогнула и…
* * *
…шершавая, холодная гранитная стена. Я вздрогнула и отодвинулась. Сумрачная проходная арка исчезла; вода ласкала влажный камень, и ветер с Невы был неуютным. Необъятный пиджак с серебряным пером, наградой от союза писателей, накинут на мои плечи, но самого Георгия Цветова нигде не было.
Вокруг туман, плотный и сырой, как падшее с небес облако. Я пыталась найти ступени, чтобы подняться на набережную, но вокруг был только гранит – серый, шершавый, словно драконья шкура. Туман странно искажал звуки, доносил незнакомые голоса, обрывки непонятных фраз:
…и негоциантов иноземных, и иных званий людишек…
…банановоз из Хельсинки. Без базара, братан: перетрём – разрулим…
…именовать впредь город Санкт-Петербург – Петроградом…
…принять студентку художественно-педагогического техникума Татьяну Дубровскую в члены ВЛКСМ. Очень почётно вступить в наши ряды в год двадцатилетия ленинского союза молодёжи. Теперь ты комсомолка, Танюшка! Вручаю тебе этот значок: носи его у сердца и не снимай никогда!
Я испуганно схватила себя за левую грудь и вскрикнула. Отдёрнула ошпаренную холодом руку.
Нету!
Ни значка. Ни груди.
То есть, грудь была. Жёсткая, поросшая волосом.
Мужская.
Потому что я уже была… Я был.
Тополёк. Папа называл меня Топольком, и бабушка гладила меня жёсткой ладонью по голове – зло, грубо, будто дёргала заевший на морозе затвор трёхлинейки. А босой офицерик в исподнем стоял у промороженной стенки и презрительно кривился:
– Что же вы, барышня? Даже перезарядить не можете. Дрожат ручонки-то?
Я посмотрел на свои руки. Они и вправду дрожали. Гранит набережной был нестерпимо холодным, изморозь рисовала на нём узоры, несмотря на теплынь августовского полдня.
Посреди Невы неторопливо, солидно, презрительно не замечая встречного течения, плыл белый теплоход. Там смеялись, хищно обнажив безупречные зубы, женщины в немыслимых декольте; бриллиантовые серьги сияющими струями падали на обнажённые плечи, бесценное шампанское пузырилось в бокалах музейного итальянского стекла.
Смутно знакомый брюнет сидел за столиком напротив бледного, бесцветного человека. И думал обо мне.
– А почему вас интересует Анатолий Горский? – спросил брюнет. – Странная история.
Памир, лето 1940
Странная история, – хмыкнул Илья Горский. – Признайтесь, что сами её сочинили. Откуда в памирской легенде ветхозаветный ангел с германским именем Конрад? Да и вообще, ангел – это христианский персонаж.
– Пусть не «ангел», а высшее существо. Имя я и вправду изменил, адаптировал для европейского уха, – согласился Аждахов, – в первоисточнике ангела звали иначе. Но замена имеет смысл, поверьте.
– А, неважно, – махнул рукой Илья. – Банальная сказка про изначальную греховность человека. Мрачноватая только, сынишке своему, Толику, я бы такую не стал рассказывать.
Рамиль, кажется, обиделся.
И молчал до самого лагеря геологов.
* * *
Выстрелы хлестнули, высекая из камней гулкое эхо.
Жеребец Рамиля всхрапнул. Присел, прижимая уши.
– Это у геологов. За мной, быстро! – крикнул Аждахов и дал шенкеля. Жеребец прыгнул с места, и сразу набрав ход, исчез за поворотом.
Горский тоже пришпорил. Мысли сталкивались в голове со звоном, вторящим грохоту перестрелки: чёрт, вдруг это по нам? Но откуда и зачем? Наган в кобуре, кобура в сидоре, сволочь. Не помню, заряжен или нет.
Последние сотни метров отмахали сумасшедшим галопом, рискуя свернуть шею на тропе, пуляющей камнями из-под копыт. Вот выгоревшие палатки, вот грязно-белый язык ледника.
Рамиль вылетел из седла уже с карабином в руке, исчез за валуном.
Растерянный Горский крутился на месте, не в силах успокоить ошалевшего от скачки мерина.
– Из седла! – заорал Рамиль.
Отвернулся, завозился с оружием.
Горский спрыгнул, но крайне неловко – сапог застрял в стремени. Мерин шарахнулся в сторону, потащил по обломкам.
Илья взвыл, дёрнулся – и наконец освободился. Подумал: «Лежу тут, как раздавленная лягушка на дороге. Подстрелят, как пить дать».
Но выстрелов не было.
Кто-то кричал от палаток:
– Товарищ Аждахов, вы?
– Я-то Аждахов, а ты кто? – не сразу ответил начальник экспедиции.
– Ларионов, геолог. Не стреляйте только!
– Это как пойдёт. Что там у вас за катавасия?
– Да целое светопреставление! Всё уже закончилось, выходите, товарищ Аждахов.
Рамиль встал, но карабин не опустил.
Пошёл к лагерю. Не шагал – скользил, готовый в любой момент юркнуть за укрытие, уйти с линии огня.
«Вот ведь ловкий, дьявол» – невольно восхитился Горский. Начал подниматься и вскрикнул: подвёрнутая нога стрельнула болью от пятки до паха.
– Этот со мной, – не оборачиваясь, сказал Рамиль. – Илья Самуилович Горский, энтомолог. Точнее, отвечает за зоологическую часть.
Ларионов шёл навстречу, прижимая руку с револьвером к левому окровавленному плечу.
– Вовремя вы, товарищ Аждахов.
– Начальство всегда вовремя, – усмехнулся Рамиль.
– Я серьёзно. Они вас услыхали и дали дёру, а то бы беда!
– Кто «они»?
– Идёмте, сразу и не расскажешь, это видеть надо.
* * *
Лагерь был разворочен: одна палатка свалена, по земле разбросаны консервные банки вперемешку с геологическим инструментом, разбитый вдребезги теодолит задрал к небу обломок стойки. Ветер трепал смятые листки кроков, звякали под ногами стреляные гильзы, ничком лежал труп в драном чапане. И висела в воздухе страшная вонь горелой органики.
– Тебе бы перевязку, Ларионов, – заметил Рамиль.
– Потом, – поморщился геолог, – ерунда. Житинского убили, скоты, и топографа. А бригадиру в живот, боюсь, не довезём до врача.
– А фельдшер ваш где?
– Он с этими заодно. Ушёл.
Аждахов вздохнул. Закинул карабин за плечо.
– Разговорчивый ты, Ларионов! Толком поясни: с кем ушёл? Кто стрелял? И чем так смердит? Будто чан с требухой в огонь опрокинули.
– Идёмте, Рамиль Фарухович, говорю же, словами не сказать, сами всё увидите.
Расшвырянный костёр чадил жирным, масляным дымом. Аждахов увидел и присвистнул, изумлённо снял фуражку, присел на корточки.
– Это как понимать?
– Вот и я не знаю, – подхватил геолог, – может, ваш спец по бабочкам чего скажет. Хотя даже тех скудных сведений о зоологии, которыми я располагаю, достаточно, чтобы резюмировать: сие не насекомое.
Горский достал очки. Долго рылся по карманам, искал носовой платок. Бросил, протёр стёкла грязным рукавом, надел – и чуть не уронил.
– М-да… Мои познания в палеонтологии весьма поверхностны, так что сходу я этого красавца не классифицирую. Один только вопрос: откуда здесь взялся динозавр? А это что, рудимент крыльев? Очень любопытно. И зачем вы его поджарили? Морда вся чёрная. И шкуру закоптили.
– Я так полагаю, что он сам в костёр забежал. В него тут и стреляли, и рубили его, и всячески изничтожали, вот несчастное животное и спасалось, как могло.
– Что?! – изумился Илья. – Мне казалось, что динозавры уже отбегали. Шестьдесят миллионов лет как.
– Слушайте, ну вонь же невыносимая, – взмолился Рамиль. – Давайте хоть в сторонку отойдём и там продолжим наш увлекательный научный диспут, заодно Ларионова перебинтуем, пока кровью не истёк.
* * *
Ларионов рассказывал.
Горский впервые видел Рамиля таким. Отважный красный командир в прошлом и матёрый начальник республиканского масштаба ныне, Аждахов был явно озадачен. Несколько раз снял и надел фуражку. Пробормотал:
– Ну, ёшкина корова, и дела…
Геологи разбили лагерь у бокового языка ледника, в тени утёса – здесь было прохладнее, меньше жара от раскалённых солнцем гор.
Тогда-то топограф обнаружил выброс непривычно чистого прозрачного льда, сквозь который виднелся тёмный силуэт свернувшегося клубком то ли ящера, то ли крокодила.
– Ничего подобного в местной фауне, – говорил Ларионов. – Я сначала подумал, гигантский варан. Ну, как он из пустыни сюда добрался – вопрос, и вараны больше двух аршин в длину не бывают, а этот…
– Три с половиной метра, если мерить шагами, – кивнул Горский. – И на глаз центнера четыре весом, не меньше.
Находка взволновала рабочих. Сбивались кучкой у костра, обсуждали что-то на таджикском и замолкали, когда появлялся кто-нибудь из начальства.
– Работы по съёмке много, из Ленинграда только бригадира взяли и трёх квалифицированных специалистов, остальных местные вербовали, в Хороге и по кишлакам. В спешке, без проверки, вот и попал всякий сомнительный элемент в экспедицию.
– Я в курсе, – буркнул Рамиль. – Не только у вас проблемы, в базовом лагере двоих на воровстве поймали. Я уже направил записку в наркомат.
– Воровство – дело обычное. А тут… Анвар мне сразу не понравился: глаза злые, смотрит, будто прицеливается, чисто басмач. Он-то и начал воду мутить, что-то про тайную долину с драгоценностями, про летучего змея какого-то бурчал. Сердце у змеюки – огромный изумруд, ага. То ли демон, то ли ангел, с неба упавший, – неимоверная чушь. Все аборигены, конечно, жуют насвай, хоть мы за это и гоняем, но ничего не поделаешь – местная традиция. Но чтобы до такого бреда дожеваться! Тут не наркотик, а нечто глубинное, из народной памяти. У нас запарка, трудов невпроворот – а рабочие бродят, как пришибленные, о другом думают. – Ларионов поморщился, потрогал свежую повязку на плече. – Словом, вижу, волнуется народ. Оно понятно: люди тёмные, безграмотные, советская власть здесь слаба, не укоренилась. Да-да, товарищ Аждахов, и не надо кривиться.
– Да я согласен, – вздохнул Рамиль. – Работы ещё непочатый край. И что вы решили по этому случаю?
– А решил я сделать, как нас партия учит: наглядно развеять религиозные слухи и домыслы. Дал команду ящера изо льда вырубить, да и убедиться – никакой это не демон, а просто пресмыкающееся, из чешуи и мяса, а не из изумрудов сделанное. Для науки интерес несомненный, хотя нас, геологов, и не касающийся. Анвар вызвался, попросил двух человек в помощь, я согласился, скрепя сердце – мы ведь и так от графика отстаём на неделю, застряли тут. И посыльного вам отправил с запиской тогда же, как раз три дня назад.
– Да, я сразу, как прочёл, сюда засобирался.
– Вам спасибо, вовремя подоспели, а то бы я не с вами беседовал, а с чертями на том свете. Ну, Анвар за дело взялся серьёзно: буром отверстий насверлил, кольев набил, откололи глыбу льда с этим чудищем внутри, разбили. А он ожил.
– Кто ожил? – не понял Рамиль.
– Кто-кто, этот варан-переросток. Шум, гам! Я-то на верхней площадке был, выстрелы услышал, прибежал. А здесь топограф, уж на что спокойный человек, а не выдержал, всадил зверю весь барабан в башку. Анвар кричит: мол, не убивайте, надо ящера допросить на предмет, где он драгоценности прячет. Представляете? Допросить! Динозавра! – Ларионов опять поморщился, потёр плечо. – Болит, сволочь. Ну, змей этот издох, ясное дело – семь пуль в голове. А Анвар точно умом тронулся: схватил топор и начал рубить, мол, до сердца надо добраться, у дракона вместо сердца – огромный изумруд. Топограф оттаскивать: не смей образец портить, палеонтологов вызовем – разберутся, Анвар на него с топором. Свалка, вопли, басмача этого связали, рабочие тут в крик: освободите, мол! Я как раз до лагеря добрался, растерялся даже, если честно. Житинский начал в воздух стрелять – они его разоружили. Забили насмерть, сволочи. А ящер вдруг ожил, кому-то по ногам хвостом врезал, такое началось: то ли в чудовище стрелять, то ли от кирок уворачиваться… Каша страшная! Мы за палатки, залегли – на всех два нагана, у Анвара с компанией трофейные карабины, да Житинского револьвер, да численное превосходство. Хорошо, что они вас увидели, товарищ Аждахов, только потому ушли, боятся тут вас, наслышаны.
Горский не выдержал:
– Рамиль, а вы ведь как раз про это мне рассказывали. Про драгоценности Изумрудной долины, про ангела, превратившегося в дракона…
– Это всё сказки, – махнул рукой Аждахов. – Легенды тёмного прошлого. Наверное…
Ларионов вмешался:
– Не знаю, как там насчёт сказок, но вот что я возле порубленного ящера нашёл.
Достал из кармана галифе и продемонстрировал брызнувший яркими зелёными искрами камень – большой, с мужской кулак, неправильной формы.
Аждахов присвистнул:
– Это то, что я думаю?
– Я вам так скажу, товарищ Аждахов, – торжественно объявил Ларионов. – Я по легендам и прочему народному фольклору не специалист, в динозаврах тоже не разбираюсь. А вот как геолог заявляю: это изумруд. Очень высокого качества. Крупнейший из найденных в СССР, а может, и во всём мире. Ну, как?
– Позвольте, – попросил Горский.
Осторожно взял камень – тяжёлый, бугристый, холодный.
– Надо бы тщательно ящера осмотреть, – сказал Аждахов. – Вполне возможно, что это не последняя находка.
– Да он тут причём? – удивился Ларионов. – Не из зверя же камень вывалился. Думаю, самородный изумруд был в леднике: язык ползёт веками, соскребает всё со склонов и дна ущелий, вот и захватил попутчика.
– Как знать, как знать… Одно точно скажу: Анвар наверняка вернётся. И так может случиться, что вооружен он будет не только карабином, тут по горным кишлакам целый отряд можно набрать. Желающих завладеть сокровищами Дом Зуммурад.
– Да ну, – неуверенно сказал геолог. – Они уже давно разбежались, перепуганные.
– Это вряд ли, горцы – народ отчаянный. Надо было сразу нам самородок показать, товарищ Ларионов, а не театральные эффекты устраивать. Дело серьёзное, а мы уже два часа потеряли.
– Я не думал… – начал было геолог, но Аждахов жёстко оборвал:
– Вот именно, что не думали. Вас или меня пристрелят – невелика беда. А вот этот камешек теперь государственная собственность, мы за него головой отвечаем. Немедленно начать эвакуацию лагеря. Выходим через полчаса, надо засветло дойти до перевала, там переночуем в святилище Насрулло. Если ночь переживём, то, может, и доберёмся без потерь.
– Как полчаса? – возмутился геолог, – а материалы, образцы? Месяц работы!
– Прекратить разговоры, выполнять! Считайте, что мы на военном положении, – зло рыкнул Аждахов и пошёл к коновязи.
Горский попросил:
– Разрешите динозавра осмотреть? Уникальный же случай, когда ещё вернёмся? Обмерить, записать. Чёрт, даже фотоаппарата нет, зарисовать бы, но художник из меня ещё хуже, чем палеонтолог. Череп не успеть обработать, можно с собой его?
– Нет, слишком большой, пудов пять, отдельный вьюк надо, лошадей и так не хватает.
Илья чуть не плакал. Склонился над чешуйчатой глыбой, зажимая рот ладонью, моргая – чудовищная вонь выедала глаза. Присел на корточки, потрогал торчащий из разрубленного брюха обломок ребра, вгляделся. Вскочил, замахал руками, закричал:
– Рамиль Фарухович, погодите! Гляньте, тут такое…
– Некогда, – бросил Аждахов через плечо. – У вас пятнадцать минут и ни секунды больше.
Город, лето
– Сказали: пятнадцать минут, и ни секунды больше.
Игорь взорвался. Раздражение копилось уже давно, со дня исчезновения Конрада, и критическая масса попёрла из горшка:
– Да кто они такие, указывать мне! Подумаешь, миллиардов понатырили. Вообще никуда не поеду. Да не суй ты мне эту удавку! – Игорь вырвал у растерянной Елизаветы галстук и швырнул в сторону. – Что ты мне за дрянь пихаешь?
Елизавета заблестела глазами. Пробормотала:
– Это не дрянь, это настоящий «живанши». Подарок.
– Чей, тля, подарок?! Нуворишей каких-нибудь.
Помощница не выдержала, голос задрожал:
– М… Мой это подарок, Игорь Анатольевич! Вам. Два года назад ещё. Копила, откладывала, чтобы любимого шефа порадовать, а вы даже коробку не открыли, она в ящике стола валялась, пылью покрываясь. Чурбан вы, Игорь Анатольевич!
Елизавета развернулась на шпильках и вылетела из кабинета. Грохнула дверью так, что с полки упал кубок за победу в боулинге.
Игорь опустился в кресло. Растерянно спросил:
– Чего это она?
– Так чурбан и есть, – усмехнулся Макс. – Она вокруг тебя по жизни прыгает: поешьте, Игорь Анатольевич, попейте, Игорь Анатольевич! Шарфик наденьте, продует. В родной детский дом позвоните, у них юбилей. Не забыли девушке своей подарок на Валентинов день? Вот я платочек купила, ей к рыжим волосам пойдёт… Тьфу! Как африканские дикари у тотемного столба. Смилуйся, Игорь свет Анатольевич, обрати на нас своё высочайшее внимание! Елизавета тебе и вместо мамы, и вместо папы, которых у тебя никогда не было.
– Точно. К рыжим, было дело, – сказал Дьяков. – Только эта дура в блондинку перекрасилась, давно уже. Выгнал я её сегодня, и ключи отобрал. Сил больше нет.
– Вот и причина божественного гнева. А то обычно ты просто так орёшь, без причины.
Игорь нахмурился:
– Что, я вправду этакий монстр?
– Вправду.
– И почему терпите?
– Причины разные, – вздохнул Макс. – Ребятам из рабочей группы просто некуда податься, кому нынче историки нужны? Мне пофиг, я тебя всякого видел. А с Елизаветой понятней всех. Крест у неё такой.
– Какой-такой крест? – удивился Дьяков.
– Ой, глазки свои невинные вылупил! Не изображай дебила, товарищ начальник, тебе не идёт.
– Серьёзно, не понимаю. О чём ты, Макс?
– М-да, точно чурбан, – снова вздохнул приятель. – И не просто чурбан, а из особо прочной морёной древесины. Ничем не взять – ни огнём, ни древоточцем. Как в таком черепе тараканы выживают, в толк не возьму. Любит она тебя.
– Уточняю: любила. Когда это было? Просто юношеская страсть, одноразовая, сгорела и пепел сдуло. Ну, ещё лет восемь назад, когда корпоратив… А, нет, не было ничего.
– Дурак ты, товарищ начальник, – Макс потянулся, хрустнул пальцами. – И не лечишься, бо безнадёжен.
Она, как на тебя посмотрит, другой становится, как фонарик внутри зажигается. Неонка, хы. Да и дома перед глазами постоянное напоминание бегает.
– Совсем ты меня запутал, Макс. Что дома бегает? Где?
– Тьфу, забудь. Так, ляпнул не к месту. Давай к нашим баранам, то есть, «Памирам». Сейчас ты наденешь галстук и спустишься вниз, потому что через пятнадцать… то есть уже через семь минут, за тобой приедет лимузин.
– И что?
– И ничего. Сядешь и поедешь, как миленький. Потому что шанс, второй раз не пригласят, а контракт нас работой обеспечит. Ты справку прочёл, которую Лиза тебе позавчера отдала?
– Да. Ну, чего ты хмыкаешь? Так, проглядел. Ну да, да. Не успел. В столе у меня, посмотрю сегодня, честное слово.
– Вот так всегда. Я пацанов из группы загонял, Лиза ночь не спала, оформляла, а ты даже не глянул.
– Хватит меня шпынять, – взорвался Дьяков. – Не мальчик. В двух словах: что в справке?
– Анализ последних трёх лет. Всё плохо, шеф. Комплексующие нувориши из подворотен Лиговки стремительно кончаются, никто уже не хочет быть рыцарем Мальтийского ордена или хотя бы потомком графьёв Орловых, а гранты от министерства похудели втрое. Не выживем мы, Игорь, если ты не сможешь охмурить насосов из «Памира». Так что давай, постарайся ради опчества, послужи делу фирмы, твоё же детище.
– Твоё тоже, – буркнул Игорь.
– Не-не-не, – выставил вперёд руки Макс. – Я сбоку, моих двадцать пять процентов только.
– Ладно. Презентация где?
– В синей папке. Там же сканы всех наших грамот-дипломов и прочие георгиевские серебряные трубы. Ну, и на флэшке, разумеется, ролик. Флэшку им так передашь, вряд ли там будет возможность демонстрации.
– Предусмотрительные, черти.
– Лизе спасибо скажи. Её работа.
– Она убежала, как я скажу?
– Я здесь, шеф.
Лиза вошла как ни в чём не бывало, только щёки бледнее обычного.
Дьяков вдруг подумал: «А ведь она красивая. По крайней мере, хорошенькая. И фигурка…»
– Шеф, позвонили с ресепшена, машина за вами приехала. Серебристый «бентли».
– Хорошо быть директором, – протянул Макс. – На «бентлях» их тело белое возят, принцессы прекрасные любят.
– Макс! – возмутилась Елизавета.
– Всё-всё, я пошёл.
Дьяков кашлянул, заставил себя:
– Ты, это… Не обижайся. Прости, словом, что-то я сегодня на нервах.
– Ну, не только сегодня, – улыбнулась помощница. – Ничего, я привыкла.
– Где тут «живанши» твой? – спохватился Игорь. – Ты права, надо соответствовать. Только завяжи, пожалуйста, я-то ни ухом, ни рылом.
– Это не единственный ваш недостаток, шеф.
Елизавета набросила Игорю на шею длинный язык галстука, ловко завязала, погладила тонкими пальцами.
Дьяков уловил прохладный аромат – ускользающий, как исчезающая в небе птица. Забытый.
– Руки, шеф.
– Что?! Я тебя не трогал.
– Увы, – вздохнула Лиза. – Действительно, не трогали. Руки поднимите, я запонки вставлю.
Игорь смотрел в упор и видел тщательно запудренные морщинки и редкие паутинки седины. И глаза. Припухшие – совсем чуть-чуть. Всё-таки плакала.
«Сволочь я», – подумал Игорь. Вслух сказал:
– Спасибо, Елизавета. Снарядила, как в бой.
– С богом, витязь преславный! Ждём со щитом, а лучше-с двумя.
И шутливо перекрестила.
Дьяков вдруг, совершенно неожиданно для себя, придвинулся и попытался поцеловать. Промахнулся и неуклюже клюнул в щёку.
– Это на удачу. Я пошёл.
Хлопнула дверь.
– Смотри-ка, покраснел, – задумчиво сказала Елизавета. – Чурбан дал зелёный побег.
Подошла к окну. «Бентли» вальяжно расположился посреди узкого переулка; «рено» и «корейцы» работников заштатного бизнес-центра смотрелись рядом с ним, словно мелкая рыбёшка рядом с китом.
Водитель распахнул заднюю дверь. За миг до того, как чёрный пробор исчез под серебристой крышей, Игорь посмотрел вверх, на окно офиса. Елизавета отшатнулась от стекла, словно нашкодившая школьница.
И рассмеялась.
* * *
То ли ведущий, то ли тамада (чёрт его знает, как это нынче называется), намозоливший глаза известный актёр, надрывался в микрофон:
– А теперь наш лайнер, гордо именуемый – какое совпадение! – «Памиром», отправляется в круиз. На верхней палубе – фуршет и несравненный Филипп, прошу, прошу! И вновь поблагодарим гостеприимного хозяина, Семёна Семёновича Акселя, основателя и владельца холдинга с названием высоким и чистым, как и положено горным вершинам!
Распорядитель в сверкающей стразами ливрее подхватил Дьякова под локоть, елейно проблеял:
– Игорь Анатольевич, извольте сюда, ваш столик на нижней палубе, лично Семён Семёнович распорядился. Он вас пригласит, сейчас у него важная встреча.
Струнный квартет играл виртуозно. Гайдн отлично сочетался со звоном хрусталя и шелестом светских разговоров:
– А там, братище, прикинь: двести двадцать процентов, как с куста, но откат нефаллический и вперёд…
– Она в третий раз грудь переделывает, а лицо – в шестой. Перфекционизм её погубит, собственные дети не узнают, пугаются…
– Освятили третий цех, батюшка такой прайс заломил! А всё равно: дали давление – всё разнесло в дербеня…
Столик был уставлен чем-то благоухающим, перламутровым, блестящим слезой на срезах и неимоверно дорогим. Сосед, мятый дядя лет пятидесяти, стрельнул мутными глазками, кивнул:
– Драсте, я Филимонов. Тоже с плошкой?
– Что? – не понял Дьяков.
– Оно как, – дядечка всплеснул короткими руками, из-под обшлагов выдернулись несвежие манжеты. – Издавна в народе говорят: один с вышкой – семеро с плошкой. «Памир» доит золотого тельца, используя нефтяные вышки как доильные аппараты, а мы, сироты, стоим с плошками – вдруг драгоценная капля перепадёт, блин.
– Я не по дойке. Тем более, телец мужского пола, к дойке не приспособлен. У меня контракт.
– Ого! Одобряю, – зажмурился Филимонов. – Горное оборудование? Дорожные работы? Может, ракетное топливо?
– Исторические исследования.
– Не может быть! Во «Памир», во даёт! Мало ему министров – уже и историю купил, блин. Мудро, мудро. Надо, например, никелевые рудники на Кубе, а вот и историческое обоснование: кто первооткрыватель? Верно, Христофор Колумб. А кто у нас Колумб? Уроженец Бобруйска, предок по отцовской линии Акселя Семёна Семёновича. Значит, наследничек нашёлся.
Дядечка довольно захихикал.
Отсмеявшись, замахал ручками:
– Официант! Коньяку. Это надо отметить. Выпить за обретение историей истинного хозяина, блин.
Безупречный халдей вырос из ниоткуда, поставил перед Филимоновым пузатый бокал. Наклонился к Игорю:
– Что желаете? Есть «курвуазье» девяносто восьмого года. Естественно, тысяча восемьсот девяносто восьмого.
– Воды. Без газа.
Официант кивнул и поскользил прочь, но был перехвачен Филимоновым:
– Блин, дружище, что ты мне подсовываешь? Бадья на литр, рукой не ухватить, а коньяку – как воробей поссал, на донышке. Дай нормальную тару и не жмись.
Официант скривился, но промолчал.
– Вот я и говорю, – подмигнул Филимонов. – Сами миллиардами ворочают, а коньяку жалеют. Экономные, потому и богатые. Я им понтон варил, стальной. Они говорят: чего смета такая? А какая смета? Нормальная. Всё путём: вот проект, вот марка стали, вот цена за тонну, вот работа. Вы, говорят, электроды дорогие берёте. Мы, говорят, погуглили – слово, блин, дурацкое. Голубиное какое-то. Гули-гули-погуглили. Погуглили и нашли дешевле электроды. И суют мне под нос распечатку. Мне! Филимонову! Я металлоконструкции варил, когда его папа ещё дрочить учился!
Он шарахнул кулаком по столу, зацепил тарелку с чем-то морским: мелкие членистоногие полетели в потолок, одно приземлилось Филимонову на ухо и безжизненно свесило усики.
– Тьфу, гадость, – двумя пальцами дядечка снял козявку, стряхнул на пол, схватил салфетку и начал яростно тереть пальцы. – Говорю же: экономят. Нет бы колбасы какой или борща – водяными блохами трудящихся травят.
Гул светских разговоров на миг смолк. Налетели накрахмаленные официанты, обтёрли дядечку и поставили перед ним новую тарелку с «фрутти-ди-маре».
– Я и говорю, – как ни в чём не бывало продолжил Филимонов. – Эти электроды для бытовых работ, забор на даче варить, оградку на могиле можно. А тут – понтон, шестьсот тонн, понимать надо! Расстреливайте – не буду заменять. Ну, они заказ другому отдали, сговорчивому. Сэкономили, тля. Пятнадцать тысяч рублей. Через три месяца читаю: потонул тот понтон, а на нём оборудования на двадцать миллионов. Долларов, блин, на двадцать миллионов! Экономисты, блин.
Филимонов схватил необъятный бокал, в мгновение высосал драгоценный коньяк и зажмурился. Прошептал:
– Забористый, гад, что твой чамбур. Ну, а потом они звонят, извиняются, конечно, и говорят: тут нам причал…
Игорь так и не узнал, что там случилось с причалом. Подошёл распорядитель и ласково прошептал:
– Прошу, прошу, Семён Семёнович вас с нетерпением ожидает.
* * *
Комодообразные телохранители, нещадно потеющие в чёрных костюмах, раздвинулись, галстуки едва не лопались на багровых шеях. Распорядитель проскочил между чёрными глыбами и кивнул:
– Прошу, наверх по трапу.
Роскошные перила, красная ковровая дорожка – будто лестницу вырезали из петербургского дворца и перенесли целиком на корабль.
Бесшумно отъехала дверь, из неё спиной, непрестанно кланяясь, вывалился человек. Заканчивая разговор, проблеял:
– Всенепременно, Семён Семёныч. А как же! Спайка власти и патриотической буржуазии – она и горы свернёт, не на «Памире» будет сказано, хы.
Обернулся и показался смутно знакомым. Фыркнул, как уплывший от охотников морж, вытащил платок и принялся яростно протирать лысину.
«Это же губернатор!» – поразился Игорь, узнавая.
– Крут! – сообщил губернатор. – Тридцать миллиардов – это хорошо, но два месяца – это плохо. Мало.
Снова фыркнул и дробно скатился по ступеням трапа.
Игорь замер, держась за перила, соображалось туго. Конечно, он был наслышан о возможностях хозяина «Памира», но делил всё на три, считая сетевыми слухами. А тут – губернатор, любимец Самого, как ресторанный халдей кланяется.
– Что же вы остановились, Игорь Анатольевич? – разнёсся под потолком вкрадчивый голос. – Прошу.
Дверь неслышно отъехала вбок, являя роскошную каюту.
Сияющий полировкой стол, огромный, словно палуба авианосца. За креслом хозяина – гигантское панорамное стекло без переплётов с видом на корму: казалось, господин Аксель парит над невской волной, а из-за спины у него бурлящими белыми крыльями расползается надвое кильватерная струя парохода. «Ангел дикого капитализма, – подумал Игорь. – Или демон? Тогда крылья чёрные должны быть».
– У меня есть десять минут, – сказал хозяин. – Ни секунды больше. Дела, знаешь ли…
Игорь Дьяков удивился:
– Так ведь я ни о чём не просил, это вы настояли на встрече, вернее, ваш помощник. Так, кстати, и не раскрыв, о чём вы хотите поговорить.
– «Поговорить» – это не про меня, – хмыкнул собеседник. – У меня времени на болтовню нет. Всё конкретно: вот условия, берёшься и делаешь.
Дьякову стало неуютно: слишком уж деловит, сразу давить начинает. Лицо как гигантская губка, пористое, бугристое, мягкое. Цвет какой-то болезненно-серый и вызывает ассоциацию с нечистой пеной на поверхности канавы промышленных стоков. И два истукана за спиной торчат, затянутые в чёрную ткань безупречных костюмов.
– Я не привык к такому тону. Если бы мы были не на корабле, а, скажем, в кафе, я бы уже вышел.
Пенолицый неожиданно расхохотался и сразу стал гораздо симпатичнее; даже редкие зубки-шипы, напоминавшие о каком-то мелком хищнике, не портили картины.
– Извини, Игорь Анатольевич. Профдеформация, японский городовой. Подрядчики, просители, вся эта канитель. Забыл, что ты у нас не какой-нибудь конченый поставщик металлоконструкций или депутат пришибленный, а человек науки и даже, японский городовой, творчества. Вот моё предложение.
Аксель вяло поднял указательный палец; один из роботов за спиной мгновенно ожил и положил перед Игорем лист дорогой бумаги с тиснёным логотипом.
– Памир, панмировая корпорация, – прочёл Игорь вслух. – Скромненько, чего уж там.
– Ты читай. Здесь кратко, разумеется. Материалы сразу.
Игорь прочитал. Потом ещё раз. Поморщился:
– Извините, то ли жарко сегодня, то ли я дурак. Но это же не по-русски написано: «исходя из ограниченного изложения вышеупомянутых малоизвестных документов». Изумруды какие-то, горные долины, динозавры. Вы меня с каналом НТН не перепутали? Семён Семёнович, наша компания не занимается легендами и слухами…
Хозяин роскошной каюты наклонился вперёд, распахнул широкий шипастый рот. Бледная кожа, розовеющие в свете заката седые, торчащие за ушами волосы – вылитый аксолотль. Игорь вздрогнул: почему-то название безобидного земноводного вызвало трудноуловимую неприятную ассоциацию.
– Я знаю, чем ты занимаешься, дружок, – с нажимом сказал Аксель. – Цитирую по памяти: «образ Колизея как нельзя лучше напоминает о вечных ценностях и истоках профессии, берущей своё начало в глубинах Леты, а символы императорской власти увековечивают величайшую личность Веспасиана». Напомнить, о чём? Эта фирма после того, как тебе за герб заплатила, задрала стоимость посещения сортиров втрое, настолько ребятки охренели от собственной значимости. Пришлось на грешную землю опускать.
Дьяков начал стремительно краснеть.
– Ладно, не тушуйся. Каждый деньги зарабатывает, как может, – миролюбиво заметил Аксель. – Птичка по зёрнышку. Понимаю. Меня вот спрашивают: зачем, мол, кладбища? Неужто на нефти – он произнёс «нефти» с ударением на последний слог – мало зарабатываете? А я так скажу: нефть-то кончится, а людишки – нет. Вот что всех объединяет, какой товар универсальный? Кто кеды носит, кто шлёпанцы, не угадаешь. А помрут-то все, каждому могилка нужна или ниша в колумбарии. И уход какой-никакой: дорожки подмести, ограду подкрасить. Тут копеечка, там тридцать тысяч. Причём чем дальше, тем мёртвых больше, верно? Так что бизнес хоть и неказистый, зато вдолгую. Хороший бизнес.
– Главное, весёлый.
– А вот этого не надо, Игорь Анатольевич. Бизнесу на эмоции плевать. Деньги не пахнут, это, как мы только что выяснили, тебе хорошо известно.
– Мы отвлеклись. Давайте по делу.
– Вот это верно, давай по делу. Кстати, твоя презентация мне не нужна, можешь флэшку не теребить.
Игорь дёрнулся и сел прямо. Он действительно машинально поглаживал в кармане пиджака переданный Елизаветой пластмассовый пенал.
– Я и так всё про твою контору знаю. Получше, чем бухгалтерша и твой партнёр. Этот, как его. Макс, голубой щенок.
Игорь тронул висок, погладил ударившую пульсом вену.
– Если вы и так всё знаете, зачем вам я?
Аксель усмехнулся. Наклонился над столом, приблизился: Игорь мог теперь разглядеть каждую пору на серой коже.
– Да, дружок, моя частная служба безопасности некоторым государственным сто очков даст. Только тут одной перлюстрацией не управишься, и снайперы не в жилу. Соображение нужно в вашей области, привычка к исследованию, японский городовой. Как там ваши археологи: черепок обнаружат, а не ломом поддевают, не хватают сразу – кисточкой, аккуратно, по миллиметру. Чтобы, значит, истину не повредить, чтобы не сломалась она, не рассыпалась в пыль, ветром не унесло. И главное, – Аксель вновь откинулся на кресле, поднял палец. – Его искали. По всей планете, не один десяток лет. А он сам пришёл, и не к кому-то – к тебе. Значит, тебе и карты в руки.
Пересохло во рту. Игорь уже знал ответ, но всё равно спросил:
– Не понимаю, вы о ком?
– Дурачка выключи, дружок, всё ты понял. Про того самого. Конрад, он же Анатолий Ильич Горский, он же Тополёк. И не подумай, что речь только про камешки, хотя изумруд высочайшей чистоты с кулак размером – это не жук чихнул. Есть вещи гораздо дороже всех денег мира.
– Странно слышать от олигарха, будто есть нечто дороже денег.
Аксель помрачнел, глаза его погасли, кожа стала совсем пепельной, уголки губ поползли вниз.
– Есть, дружок. Есть.
– Например, что?
Аксель гладил бугристое лицо, молчал.
Игорь смотрел на распухшие в суставах пальцы, на синие вены, напоминающие трещины в древнем мраморе. На разбегающиеся буруны за стеклом, стремительно краснеющие в закатном свете.
Ждал ответа.
Памир, лето 1940
На подъёмах приходилось спешиваться, брать уставших лошадей в повод. Горский снял очки: пыль ложилась на стёкла, на кожу, превращаясь в корку, забивая ноздри и горло. Раскалённый шар в небе выжигал глаза, чёрные горы дышали жаром, словно мартеновские печи. Вода едва плескалась на дне фляги. Аждахов запретил дневку (некогда! ходу, ходу, слабаки), переждать самое пекло не удалось.
Мерин тяжело раздувал бока, хлюпал селезёнкой. Перед глазами Ильи плыло, мерещились ленинградские проспекты – пустые, мёртвые, покрытые падающими с выгоревшего неба пепельными хлопьями; впереди пропотевшая спина Ларионова качалась, словно язык метронома: влево-вправо, влево-вправо, влево, влево, влево…
Горский очнулся, натянул поводья, вывалился из седла – и успел, подхватил падающего.
– Помогите!
Подскочили, уложили на мелкий камень тропы. Глаза у Ларионова были белые, сквозь растрескавшиеся губы прорывался хрип.
– Что с ним? – зло спросил Аждахов.
Илья дёрнул пуговицы на вороте гимнастёрки геолога, сунул руку в жаркое, влажное.
– Повязка сбилась, растрясло. Течёт. Крови много потерял, и солнце.
– Перевязать. Да живо, живо!
Илья поднялся, достал очки, принялся яростно протирать.
– Рамиль Фарухович, и дальше что? Он без сознания, а санитарную карету я тут не наблюдаю. Нужен привал, и люди, и кони уже на пределе.
Аждахов хлестнул плёткой по голенищу, надвинулся. Не кричал – говорил тихо, страшно, будто отрубал по куску:
– Отставить. Нытьё. Ларионова привязать. К седлу. Надо успеть. До заката. Или – смерть.
– А если выпадет, да головой на камень? – прошептал Горский, не в силах смотреть в горящие глаза.
– Упадёт – останется. А мы дальше пойдём.
– Это не по-человечески.
Аждахов схватил Горского за отвороты пиджака, тряхнул:
– А сдохнуть тут всей экспедицией из-за одного – по-человечески? Ты видел, что басмачи с пленными делают? Нет? А я видел. Сначала уши отрежут, нос, пальцы. А потом – причиндалы, и в рот тебе же запихнут. Понял, ты, интеллигент сраный? Собрал жопу в горсть и выполняй приказ. Или я сам тебя в башку, чтоб не мучился.
Развернулся, пошагал вдоль маленькой колонны, покрикивая:
– Давай, давай, чернильное семя!
Илья посмотрел вслед, подумал: «Ведь прав. И уверен, что приказ выполнят».
Вздохнул и достал из сумки последний рулон бинта.
* * *
Успели.
Солнце смирилось, прекратило убивать маленький караван. Разочарованное, упало за острое лезвие хребта.
Коней поили в темноте. Скрипел ворот древнего колодца, поднимая очередное кожаное ведро. Трещал базальт, стремительно остывая от дневного пламени.
Ларионова занесли внутрь купола. В сознание он так и не пришёл, пульс едва прощупывался.
– Я, конечно, не врач, – сказал Илья. – Но дело плохо. Боюсь, не довезём.
– Давайте сначала доживём до восхода.
Рамиль при неверном свете костра перебирал обоймы. Вздохнул:
– Мало. Карабин да четыре револьвера, и патронов чуть. Один расчёт – напугаем. Горский, вы свои пересчитали?
– Свои – что?
– Публикации в научных журналах, – рассердился Рамиль. – Патроны к нагану, разумеется. Сейчас на пост геологи пойдут, двумя сменами, а с двух часов до рассвета наше время. Хорошо, что сюда только по одной тропе можно подняться, Анвар незаметно не подберётся.
– То есть уверены, что погоня будет?
– Если он изумруд успел увидеть – непременно.
– А если нет?
– Надеяться надо на лучшее, на то и оптимизм, – назидательно сказал Рамиль. – А вот готовиться – к худшему. Вы бы поспали.
– А вы?
– Это вряд ли в ближайшие сутки. Да ничего, я привычный. В двадцать шестом колодец в Каракумах держали, четверо суток не спал.
– Как смогли?
– Просто, – усмехнулся Рамиль. – Иголку вогнал в воротник. Начну засыпать, голова опустится – а иголка в челюсть! Бодрит, понимаешь. А вы ложитесь.
– Удивительное сооружение, – заметил Горский, оглядываясь. – До верхней точки метров пять. Ладно бы в городе, но здесь, в глуши. Глина?
– Камень.
– Ого! Это сколько работы?
– И, заметьте, всё один человек сделал. Каждый камень обтесал вручную – по крайней мере, так утверждает местная легенда.
– Не может быть!
– Вполне. Человек был во всех смыслах необычный. Насрулло – «помощь Аллаха» по-арабски, да только он и сам справлялся. Правда, Николай его не оценил.
– Какой Николай?
– Тот самый, что декабристов тиранил, Первый. Насрулло – исламское имя, а в крещении он был Иван Сергеевич, князь Максумов, подполковник Лейб-гвардии Конного полка, герой войны Двенадцатого года.
– Ого! Как он очутился на Памире, да ещё в мусульманских святых?
– Долгая история. А всё началось с того, что в заграничном походе будущий Насрулло сдружился с князем Ураковым, командиром башкирской иррегулярной конницы. Ну и, впечатлённый атакой северных амуров…
– Амуров?!
– Да, башкиры были вооружены луками, парижан вид степных батыров привёл в натуральную экзальтацию, отсюда и «амуры». Так вот, наблюдая атаку лучников при Веллау, а после наслушавшись башкирских рассказов на бивуаках и вспомнив о татарских корнях князей Максумовых, Иван Сергеевич внезапно проникся идеей азиатского происхождения истинных устремлений России. И даже не азиатского вообще, а именно монгольского, степного. После возвращения из Парижа ушёл в отставку, засел в саратовском имении, выписал тьму научных журналов. В Казань ездил, в Оренбург, копался в архивах, скупал редкие документы эпохи Казанского ханства, Ногайской орды. А потом рванул аж в Иркутск. Вы себе это представляете? Декабристы по приговору, а он – добровольно. Шесть лет там шатался, все бурятские дацаны объехал, в Урге побывал. По распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири попал под негласный надзор: уж больно странное поведение для князя. Когда вернулся, засел за эпохальный труд: «Русазия, или размышления о произрастании Российского Величия, и чем то Величие прирастать должно». Я по памяти сейчас, не дословно. В 1846 году лично доставил рукопись весом в пуд в столицу. Поднял старые знакомства, боевых товарищей попросил, сумел-таки заветные листы передать государю. Говорят, Николай Павлович поначалу воспринял идеи Максумова с большим энтузиазмом, дал ветерану аудиенцию, повелел размножить труд в полудюжине копий и передать для составления мнения государственным мужам. Орлов, преемник покойного Бенкендорфа, проект Максумова поддержал, как и светлейший князь Чернышёв, глава военного ведомства, а вот Святейший Синод в полном составе возмутился, обозвал сочинителя вероотступником, уже анафемой запахло…
Аждахов остановился, налил из жестяного чайника. Долго пил. Илья посмотрел на ходящий ткацким челноком кадык, сказал:
– Очень любопытно вы излагаете. Никогда о таком не слышал.
– Да и не могли, Илья Самуилович. История малоизвестная, все копии княжеского труда уничтожены, есть лишь разрозненные воспоминания современников.
– Так в чём суть проекта?
– Долгая история, а мне надо караул проверить. Позже расскажу, а вы – спать.
– Ну, хотя бы в двух словах, – взмолился Горский. – Я же не засну от любопытства.
– Не хватит двух слов, ну да ладно. Идея Максумова такова: Великая степь, простирающаяся от Даурии до венгерской равнины, есть источник вечной энергии, эманации которой выталкивают степняков на Запад, заставляя создавать великие империи, каждый раз всё более мощные и обширные. Эти волны накатывают с определённой периодичностью, закономерности которой Максумов якобы высчитал. И новая волна, которую российскому монарху надобно оседлать, должна подняться в течение ближайших ста лет, то есть с середины века прошлого до середины века нынешнего, двадцатого, а следующая – только в двадцать первом веке. Навстречу, наоборот, катит волна с Запада, со стороны Атлантики, океанская против степной, хотя степь – это тоже океан, но прочный, настоящий…
– Подождите, а русские-то причём?
– Притом, что природа русского человека двойственная, лесная и степная одновременно, и эта противоречивость… Всё, не могу больше говорить, времени нет.
– Ещё минуту, – взмолился Илья.
– Максумов утверждал, будто все степняки, от монголов и киргизов до башкир и венгров, суть составные части великой Русазии, русским природные союзники и братья. Понимаете? Мусульман и буддистов Синод ещё как-то мог простить, но мадьяр-католиков – никогда. Тут сильно забеспокоился австрийский посол, добавил интриги. И, наконец, венгерское восстание сорок восьмого года окончательно погубило карьеру демиурга Русазии Максумова. Подвели его мадьяры, плохо их знал. Всё, я пошёл.
Аждахов подхватил карабин и вышел через узкий проём, прикрытый кошмой. Он, да дыра в потолке, через которую выходил дым от костерка, были единственными отверстиями в каменном мешке.
Геологи взяли с разгромленной стоянки только самое ценное: кроки, отборные образцы, дорогие приборы. Илья разыскал свой кожаный мешок, подтащил ближе к огню, ослабил верёвку и раскрыл горловину. Ни череп, ни шкуру динозавра взять не удалось, зато в мешок поместился мёртвый детёныш чудовища, обнаруженный Ильёй в последний момент. В слабом свете костра посмотрел на свернувшееся клубком тельце, осторожно потрогал нежные чешуйки. Принюхался: несло тиной, запах гнили ещё не появился, хотя целый день – на жаре. Охнул: показалось, что полупрозрачное веко дрогнуло, приоткрыв жёлтый глаз с вертикальной щелью зрачка. Прошептал:
– Что же ты за создание, зверёныш?
За спиной заворочался, закашлялся Ларионов. Илья оставил мешок, схватил кружку, налил, подошёл. Подсунул ладонь под затылок, приподнял.
Раненый долго не разжимал зубы, вода текла по щетинистому подбородку; Илья уговаривал:
– Ну, давайте же, голубчик. Пейте.
Ларионов был совсем плох: провалились щёки, пляшущий свет рождал на них тёмные, словно трупные, пятна. Зрачки плавали, как тусклые льдинки в проруби, ударяясь о края век. Илья надавил пальцами на щёки, заставил отвалиться челюсть, влил воду в чёрную впадину рта.
Ларионов напился, упал на лежанку. Сказал вдруг совершенно ясным, спокойным голосом:
– Всё, отпрыгался. Знаете, в поле, для пожизненного геолога и неплохо.
– Прекратите, – сказал Илья. – Что за обречённость? Пришли в сознание, до утра отлежитесь. Один переход, и доберёмся до врачей.
– Нет уж, всё. Да и урод о том же говорит.
– Какой урод?
– Вон, наверху.
Илья проследил за взглядом геолога, посмотрел на потолок, не сразу рассмотрел в потёках и трещинах рисунок. Странный монстр – голова крокодилья, руки человечьи, в спину воткнуты два копья, с древков свисают какие-то обрывки. Пробормотал:
– Памирская химера. Что у неё сзади торчит? Будто потрёпанные знамёна.
– Это крылья, – невозмутимо произнёс Ларионов. – За мной прилетел. Пора, стало быть.
Илья не успел возразить: грохнуло, зарокотало, тишину ночи с треском порвала пулемётная очередь; закричали люди, заржали кони. Илья бросился на выход, вспомнил, вернулся, схватил свой сидор, сунул руку, нащупывая рукоятку; снаружи грохотало, по куполу ударило дробью, посыпалась пыль.
Рванул наган – тот зацепился, не желал вылезать из уютного мешка. Чертыхаясь, дёрнул, что-то затрещало; побежал на выход, запутался в кошме, вывалился из купола.
– Ложись! – крикнул Рамиль. – Торчишь тут, как хрен из грядки.
Илья упал. Пополз, царапая живот об острые камешки.
Рамиль работал уверенно: стрелял редко, перезаряжал неторопливо, вновь целился. Внизу, на тропе, кричали, пытаясь то ли напугать, то ли подавить собственный страх.
– Пулемёт у них, – спокойно сказал Рамиль. – И откуда что берётся? Мирные дехкане, строители социализма, тля.
Словно отвечая, в камень ударила очередь; Илья охнул, выронил револьвер, схватился за щёку.
Рамиль мгновенно перекатился; лёжа на спине, принялся перезаряжать карабин. Сказал весело:
– Предпоследняя обойма, и кирдык. А вы чего там? Ранило?
– Крошка, похоже, – пробормотал Илья, утирая кровь. – От валуна откололась.
– Бывает. Вы бы не валялись, как на пляже у Петропавловки, а вот за тот камешек. И стреляйте, чёрт побери, зачем вам наган?
Илья дополз до укрытия, осторожно высунулся. Ниже, метрах в двадцати, разглядел в лунном свете геологов: двое лежали неподвижно, неестественно вывернув ноги, третий возился, перезаряжая револьвер. Ещё ниже, на тропе, валялись тёмные силуэты, с десяток.
Вновь ударил пулемёт, но очередь пошла выше, по куполу святилища; грохотало долго и резко оборвалось – то ли кончилась лента, то ли перекосило патрон.
Внизу завыли, заорали – слов не разобрать, но стало страшно.
– Бах! Бах! Бах!
Геолог стрелял торопливо, но точно: один нападающий сложился, рухнул на тропу, остальные вновь спрятались за камнями, отвечали вразнобой.
Илья вспомнил: наган же! Прежде вытащил очки, протереть было нечем, надел так, зацепил дужки за уши. Обхватил правое запястье левой рукой, навёл на место, откуда были вспышки, надавил на тугой крючок. Зажмурился и услышал: щёлк. Осечка. Ещё раз: щёлк. И ещё, ещё.
– Горский, вы наган-то зарядили? – крикнул Рамиль.
Илья обмер. Патроны остались в сидоре.
Вскочил, побежал к святилищу. Внизу ожили, принялись палить; пули высекали искры из валунов, свистели над головой – Илья петлял, прыгал в стороны, из-за чего путь смертельно удлинился; сердце грохотало в ушах, что-то кричал Рамиль. Илья всё бежал, как стометровку в университете, но серый купол святилища словно дразнил – не приближался, а наоборот, становился далёким, недосягаемым.
Сбоку налетело, сбило с ног: Рамиль навалился, накрыл, вопя в ухо:
– Идиот! Куда? Сбежать решил, амчектык?
И вскрикнул, дёрнулся, выронил карабин, схватился за бедро.
– Я за сидором, патроны там, – хрипел Илья.
Рамиль сел, сдавил хлещущую кровью рану. Прорычал:
– Из-за тебя, придурок. Всё через жопу.
Снизу прокричал геолог:
– Товарищ Аждахов, уходите, пять минут у вас!
– Всё, не уйти с такой дыркой, – пробормотал Рамиль.
Илья вскочил было – Рамиль схватил за руку, дёрнул вниз:
– Куда?
– В купол, за бинтом, перевязать вас. И патроны взять.
– Отставить, Горский.
– И мешок, с детёнышем динозавра.
– К чёрту ящерицу.
Рамиль вытащил свёрток, развернул. В бледном свете рождающейся зари огромный изумруд неожиданно сверкнул красным. Горский вздрогнул, поёжился от неясного чувства.
– Бери и уходи. Полчаса тебе обеспечу, больше никак. Через перевал, потом вниз, двадцать вёрст. Услышишь погоню – прячься.
– Я вас не оставлю. Или вместе, или никто.
– Заткнись, – Рамиль схватил за ворот, подтянул, брызгал слюной в лицо: – Выполняй приказ, уходи. Доставишь камень представителю советской власти.
– Там, в мешке, образец небывалой научной ценности.
– Кутаррга! Засунь свою науку в задницу. Изумруд окупает всю экспедицию, все потери. Этот камень дороже всех нас, вместе взятых, он – государственная собственность. Ясно тебе, дефективный?
Илья не слушал. Оттолкнул раненого, вскочил, побежал в святилище.
Рамиль, ругаясь, подтянул за ремень валявшийся рядом карабин. Поднял, направил на тропу, прицелился:
– Бах!
Илья неверными пальцами запихивал масляные цилиндрики в барабан. Вздрагивал при выстрелах: они, как и вопли басмачей, проникали под купол ослабленными, будто потусторонними, но оттого ещё более страшными.
Посмотрел на фарфоровое лицо вытянувшегося Ларионова. Протянул руку, чтобы закрыть геологу глаза – не смог. Схватил кожаный мешок, выбрался наружу. Охнул.
По лагерю бродили люди в чапанах, ворошили мешки, снимали сбрую с мёртвых коней. Один подошёл, сверкнул нестерпимо белыми на копчёном лице зубами. Ткнул карабином в грудь:
– Ходи туда-сюда, кяфир.
Горский не понял, басмач оскалился ещё больше, ударил дулом в солнечное сплетение, Илья задохнулся, упал на колени.
Басмач вырвал мешок, растянул горловину. Заглянул внутрь, закричал «мукааб аждахо!», бросил, отскочил.
Над лежащим ничком Рамилем толпились, ржали громко, нарочито – гнали остатки страха перед легендарным Аждахом. Пинками перевернули тело, склонились. Сверкнуло лезвие, вонзилось в грудь: вырезать сердце, чтобы наверняка.
Вдруг вскрикнули тонко, удивлённо:
– А-а-а!
«Изумруд нашли», – понял Илья.
Склонились над находкой: глава басмачей Анвар держал на ладони окровавленный камень, говорил быстро, захлебываясь, остальные цокали языками, кивали.
Рамиль вздохнул. Сел. Потрогал рваную дыру на левой стороне груди. Поднялся.
Басмачи отшатнулись, завизжали. Рамиль шагал неверно, неуклонно. Одной рукой схватил Анвара за горло, второй отобрал красный комок, сунул обратно в грудь. Басмачи вопили, били Рамиля ножами, стреляли в упор: пули вырывали куски мяса, выплёскивали кровь.
Додушил. Отпустил: мёртвый Анвар рухнул в пыль.
Рамиль потрогал свою грудь, нащупал удары сердца. Улыбнулся.
Пошагал к следующему, протянув руку. Басмачи завыли, бросились врассыпную.
Илья стоял на коленях. Смотрел и понимал, что сходит с ума.
Тополёк
Ленинград, июнь 1941
Первый солнечный луч подкрадывался, как опытный разведчик: полз неспешно, неслышно и, наконец, проник сквозь веки, зажёг алый сигнальный огонь. Толику очень не хотелось просыпаться, он не поддался сигналу, натянул одеяло на глаза и попытался вспомнить сон, чтобы досмотреть.
Во сне храбрые друзья, Толик Горский и Серёжка Тойвонен, скакали на горячих жеребцах в тыл к японским самураям, красноармейские шлемы с пыльными звёздами, шашки в руках – красота!
Густые вражьи цепи вопят, раззявив рты, и тыкают штыками, но совсем не страшно: р-р-раз шашкой – и жёлтые головы сыплются, словно срубленные прутом головки одуванчиков. И вот уже сам маршал Будённый говорит:
– Молодцы! Теперь вы не октябрята и даже не пионеры, а красные командиры!
Маршал улыбается в тюленьи усы и протягивает на ладони алые квадратики-«кубари» в петлицы.
Толик и Серёжка вытягиваются, хором кричат:
– Служим трудовому народу!
И вот новое задание партии и правительства: лейтенанты Горский и Тойвонен сражаются против белофиннов, ползут по зимнему полю в маскхалатах, снег хоть и белый, но совсем не холодный – мягкий, гладкий, тёплый, словно простыня. Маршал Будённый хмурится и командует:
– Вставай!
Толик удивляется: как же вставать, если пулемёт? Его сначала нужно зашвырять гранатами, а уж потом…
– Вставай, Анатолий! Коммунизм проспишь.
Маршал превращается в бабушку Софью Моисеевну, стаскивает одеяло и нарушает тем всю маскировку.
– Живо, умываться и завтракать. Машина уже пришла.
В доме гуляют сквозняки, грохочут тяжёлыми башмаками грузчики, шум и суета. Ворона Лариска, запертая в клетке, возмущённо кричит:
– Карраул! Карратели!
«Сегодня же на дачу!» – вспоминает Толик и мгновенно просыпается.
* * *
Серёжка Тойвонен стоял у парадной, теребил бамбуковую удочку и ныл:
– Ну ма-ам! Ну можно не буду надевать панамку?
– Как это «не буду»? А голову напечёт?
– Она дурацкая, такие только девчонки носят.
Тётя Груша нетерпеливо отмахнулась, шагнула к парадной:
– Здравствуйте, Софья Моисеевна!
– И тебе не хворать, Агриппина.
– Вы уж там построже с моим байстрюком.
– Не переживай, – усмехнулась бабушка. – У меня не заржавеет, будут по струнке.
Толик посмотрел на фанерный чемодан Серёжки, рассмеялся:
– Ты прямо как профессор Паганель, с саквояжем!
Друг расстроился ещё больше, проворчал:
– Говорил я ей, да разве слушает? Ещё панамка эта дурацкая.
Здесь Толик согласился: панамка совсем не к месту, другое дело – шлем красвоенлёта! Серёжка оглянулся на маму, прошептал:
– Она говорит: «Жарко в нём, кожа должна дышать». Вот глупость, а! Где это видано, чтобы кожа дышала? У неё и рта-то нету. Но я шлем в чемодан спрятал, она отвернулась, так я тихонько положил.
– И правильно, – согласился Толик.
Наконец грузчики закончили таскать баулы и связки книг в грузовик, доложили:
– Готово, хозяйка.
Софья Моисеевна рассчиталась, услышала «надо бы добавить», отрезала «прокурор добавит» и скомандовала:
– Мальчишки, в кузов!
Толик очень обрадовался: понимал, что в кабину они с Серёжкой не поместятся, но до последнего боялся. Вывернулся из маминых рук, чтобы не успела поцеловать (эти женщины всё время пытаются обслюнявить, тьфу), подскочил к грузовику.
– Давай, пионер, – сказал грузчик, сдавил железными руками, легко поднял Толика, подтолкнул; Толик перевалился через борт, но неловко: уткнулся носом в узел с барахлом, который пах затхлым, словно был набит плесенью, ушибся локтем об угол ящика, но даже не поморщился – едем!
– Давай я буду пилот, а ты штурман! – предложил возящийся среди баулов Серёжка.
Толик расстроился, что не успел первым сказать про пилота. Сплюнул и сказал:
– Вот ещё, штурманом!
– Соглашайся. Будешь как Беляков. А хочешь, вторым пилотом, как Байдуков?
– Aгa, a ты как Чкалов?
– Ну, давай до Кировской я командир корабля, а после ты.
– Вон у нас пилот в кабине сидит, называется «шофёр». А бабушка штурманом и командиром всех кораблей сразу.
Серёжка захохотал было, но вовремя уткнулся в затхлый узел и смеялся туда, только плечи ходуном. Толик поглядел, тоже улыбнулся и добавил шёпотом:
– И нарком авиации заодно.
Шофёр тем временем занял должность авиамеханика: долго крутил тугую ручку, словно самолётный винт, та взвизгивала, будто жаловалась на трудную жизнь; наконец, мотор схватился, зачихал, стреляя синими струями из выхлопной трубы. Бабушка дала последние наставления маме Толика, пожала руку тёте Груше, кряхтя, поднялась в кабину, втащила клетку с Лариской; ворона выглядела растерянной, паниковала и каркала невпопад:
– Гор-pox! Тр-ребуйте папир-росы «Беломор-рканал»!
Мама что-то кричала, но за мотором было не слышно, махала рукой, Толик тоже помахал. Поехали!
Мчались через мосты, мимо рыжей Петропавловки, мимо артучилища, где курсанты с полотенцами на шеях строились в баню; мимо плакатов и сверкающих витринами магазинов, мимо толстых мороженщиц в белых халатах, по широким чистым проспектам; неторопливые трамваи сердито скрипели, завидуя резвой полуторке, постовые на перекрёстках жезлами указывали верный путь; тугой ветер бил в лицо, хулиганя, сорвал панамку с Тойвонена – еле поймали. Мальчишки хохотали, падали на мешки, когда машина тормозила, и дрыгали ногами; махали всем встречным подряд и кричали:
– А мы на дачу! С октябрятским приветом!
Люди не слышали слов, но улыбались и махали в ответ.
* * *
На даче здоровско, особенно если рядом верный друг Серёжка, который понимает тебя с полуслова, и, если бросаешься с шашкой-прутом на злую крапиву, всегда прикроет с фланга и поможет одолеть врага. А ещё может сидеть рядом целый час и даже больше, глядя, как муравьи объедают дохлую лягушку до белых косточек. Толик называл это почему-то анатомическим театром, а Серёжка возражал, что в театре не скелеты, а толстые тётки в бархатных платьях поют какую-то невразумительную ерунду, не то что в фильме «Волга-Волга», где весело, особенно когда репетиция оркестра. И в два шланга веселее устраивать муравьям «пионерский потоп»: глупые муравьи думают, что дождь, начинают суетиться, паниковать, затыкать норки.
Даже противное тёплое молоко, которое дебелая соседка приносит в бидоне по утрам, в компании пьётся легче, к тому же Тойвонен парное любит и поможет допить кружку. И когда местные вдруг пристанут, вдвоём сподручнее отбиваться, стоя спина к спине, а потом хором врать бабушке, что синяки от падения с велосипеда, хотя никакого велосипеда и вовсе нет.
С местными потом помирились и подружились, и они уже не ржали над короткими шортами, сами хоть в длинных домотканых штанах, зато босиком. Кожаный лётчицкий шлем местные оценили, вежливо попросили – Серёжка дал. Надевали по очереди, и пока счастливчик, зажмурившись, воображал себя сталинским соколом в небе Испании, остальные ждали, переминаясь с ноги на ногу, ныли:
– Ну чего там? Быстрее давай, уж полчаса прошло.
Тогда Толик солидно смотрел на подаренные папой командирские часы и говорил:
– Только четыре минуты. Вот, пять. Следующий!
Следующий деревенский надевал шлем, сразу становясь значительным и суровым.
А когда Толик рассказывал про «Сталинского дракона», местные недоверчиво переспрашивали:
– Сами? Прям самолёт?
– Планер, – важно пояснял Серёжка. – Вернее, модель. Размах крыльев метр двадцать!
– Небось упал сразу.
– Вот ещё. До сих пор летает. Восходящие потоки – это, брат, сила.
В благодарность местные показали «ближнее место», тропинку через камыши к берегу Тихони.
– Караси тут – что твои хряки, толстущие да жирные. Только прикормить надо.
Бабушка разрешила не сразу, долго наставляла:
– И, гаврики, в воду не лезьте, от греха подальше. Особенно ты, Анатолий! Уже чуть не утонул на этой Тихоне. Она хоть и тихая, но коварная – омуты, течения.
– Ну, бабушка, это сто лет назад, я ещё малёк был.
– А теперь большой? – усмехалась бабушка.
– Теперь я уже, считай, третьеклассник и плавать умею.
– Ладно. Всё равно в воду запрещаю. Только если взрослые рядом.
Разбудила до рассвета, дала корзинку с хлебом, колбасой и огурцами. Тойвонен удивился:
– Караси разве едят огурцы?
– Какие ещё караси? – в свою очередь удивилась бабушка.
– Толстые, как эти… – Серёжка забыл название. – Свинские мужья, словом. Их прикармливать надо.
Бабушка долго смеялась, а потом сказала:
– Обойдутся ваши свинские мужья, сами ешьте.
С утра было неуютно, потревоженная трава плевалась холодными брызгами росы, кричали петухи, состязаясь, кто громче. Мычала корова, жалуясь на толстую дебелую молочницу: разбудила ни свет ни заря и дёргает за титьки. Шли, зевали, потом Толик принялся пересказывать книжку «Прыжок в ничто» про полёты в космическом пространстве. Тойвонен сказал:
– Знаю! Беляк написал.
– Сам ты беляк! А это наш писатель, советский, социалистический! Александр Беляев.
– Всё равно знаю. Он ещё про этого, морского человека с жабрами.
Потом говорили о том, как здорово иметь жабры: можно нырять хоть на час и рыбу ловить голыми руками. А ещё можно с миной подплыть и подорвать вражеский крейсер – то-то буржуи удивятся!
Серёжка вдруг споткнулся, замер, протянул руку.
– Ты чего?
Серёжка весь посерел, молча продолжал показывать. Толик поглядел туда и тоже замер, чувствуя, как холодный комок ухнул в желудок и ниже. Поперёк тропки ползла длинная змея с ломаным узором на спинке.
– Гадюка! – прошептал Толик.
Дальше шли медленно, внимательно глядя на ноги. Серёжка держался сзади, ныл:
– А если она сбоку напрыгнет, из кустов? Зажалит до смерти.
Толику самому было страшно, но он собрался и возразил:
– Это у пчелы жало.
– А у гадюки?
– У неё зубы. Ядовитые.
– Вот сейчас легче стало, – ехидно сказал Серёжка.
– Трус ты, Тойвонен, а ещё сын орденоносца! Вот если бы мы в разведку? Ты бы сейчас ныл: «Вдруг сейчас финский лыжник из кустов напрыгнет? Пойдём обратно, скажем командиру, что испугались».
– Лыжник не напрыгнет, лыжи помешают. И я не трус. Я хотел её удочкой, да пожалел. Хорошая удочка потому что.
Тут Серёжка не соврал: удочка у него знатная, бамбуковая. У Толика – просто ореховая ветка, зато сам вырезал и от коры почистил.
Потом нашли то место на берегу, достали из корзинки жестянку, и вовремя: червяки переползли через край и уже присматривались к колбасе.
Поплевали на наживку, как водится, поколдовали:
– Червяк, червяк! Давай на крючок, под водой молчок, примани карася, линя да язя, корюшку да ряпушку, щуку да налима – уха необходима. Без добычи не возвращайся, с товарищами прощайся!
Сидели, смотрели на поплавки из винных пробок. Серёжка зевал-зевал, да и заснул, выронил драгоценную удочку. Толик спохватился, прямо в одёжке прыгнул, поймал.
– Растяпа, – ругался, дрожа от холода. – Куда тебя в разведку? То гадюки боишься, то снаряжение теряешь. Утопишь винтовку – и всё, трибунал.
Серёжка виновато сопел. Толик торопливо разделся, отжал мокрые штаны, куртку и майку. Серёжка собрал сухие ветки, да толку – спички были у Толика в кармане куртки, промокли.
– Домой надо, простынешь.
– Без улова? Чтобы все засмеяли?
Солнце пожалело, поднялось выше, принялось сушить мокрые волосы. Толик перестал дрожать, развесил одёжку на прибрежных кустах. Сказал:
– Смотри, Тойвонен, бабушке ни слова! Не то надерёт уши и больше не пустит никуда.
– Могила, – кивнул Серёжка. – А где сандалетка твоя?
Толик посмотрел на ноги, только сейчас понял.
– Утонула. Ну всё, бабушка устроит мне!
– Надо нырнуть, поискать.
– Да куда там! Течением унесло, небось уже к Финскому заливу подплывает.
– Не, она же тяжёлая, с застёжкой. Лежит тут, ждёт.
Тойвонен принялся раздеваться. Толик смотрел на воду, сияющую солнечными осколками, щурился. Вдруг увидел, ахнул: из воды на миг высунулась зелёная голова, блеснула жёлтым глазом с вертикальным зрачком, мокрая сандалетка – в зубастой пасти. Толик зажмурился от ужаса, открыл глаза – никого. Сглотнул. Серёжка, ёжась, спускался по скользкой глине, держась за прибрежные кусты. Толик показал рукой туда, где видел зелёную тварь:
– Вот там поищи.
Серёжка зажал одной рукой ноздри, второй принялся шарить в иле – и точно! Поднял победно сандалетку над головой, закричал:
– Ура! Краснофлотец-водолаз Тойвонен задание командования выполнил!
Толик думал: сказать про зелёное чудовище, не сказать? Мучился до самого полдня. Съели бутерброды с колбасой, съели огурцы, да и двинулись домой с пустым ведёрком.
– Наврали местные, никаких карасей тут нет.
– Может, есть? Просто мы распугали. То удочку уронили, то в воду прыгали.
– Чего это «уронили»? Ты и уронил, потому что задрых на посту.
Серёжка обиделся, запыхтел. Толик понял: зря. Ведь друг, не раздумывая, нырнул за сандалеткой. Решился, рассказал. Серёжка удивился, обрадовался. Всю дорогу рассуждал про зелёную тварь, а потом заметил:
– Это был тот самый морской человек с жабрами. Решил нас выручить, потому что мы советские, и он советский, помогает революционерам и беднякам Латинской Америки. А вовсе не дракон! Вот дома у тебя в банке дракон, только маленький.
Толик не стал возражать. И рассказывать не стал, что этот жёлтый глаз с чёрной вертикальной щелью зрачка он уже когда-то видел.
Город. Лето. Утро.
Серая масса пыхтит, трётся локтями, карабкается по ступеням. Многоногий слон с крохотными подслеповатыми глазками. Слон никогда не станет розовым, потому что рассвета не будет.
Серые плащи, серые лица, серые мысли. Пепел сгоревшей мечты покрывает впалые щёки и лысеющие головы. Прах возвращается к праху.
Тяжёлая дверь надвигается, грохочет, она готова смести, искорёжить, покалечить, потому что тот, кто идёт впереди, забыл обо мне. Или никогда не помнил.
Серая пена захлёстывает вестибюль, залитый болезненной синевой мёртвых ламп, – они никогда не заменят дневной свет, как бы их ни называли; на лицах залегают тени, чёрные дырки глаз проваливаются в пыльные чуланы опустошённых душ.
У пса слезятся глаза. Он кладёт седую морду на лапы с обломанными когтями и вздыхает. По его вытертым бокам – двое охранников, тётка и тощий.
Необъятной тётке не нашлось формы по размеру, серый мундир топорщится, бугрится безобразными кочками; от тётки смердит.
– Нюхать будешь его? – спрашивает тётка.
Пёс зажмуривается. Он не хочет видеть меня.
Тощий шмыгает, затягивая сопли в мокрые ноздри, бормочет:
– Слышь, отец, через рамку пройди.
Я шагаю в сторону от потока: рамка сбоку, она не ведёт никуда. Я прохожу сквозь сооружение, контуром похожее на гроб. Рамка истерически верещит, сверкает красным глазом.
– Плащ расстегни, отец. И всё из карманов.
У меня в карманах пусто. Когда отправляешься в путь, не бери ничего лишнего. Если пусто в карманах, остаётся выворачивать душу: я раздеваюсь догола, хватаю себя за седые волосы, сдираю скальп, стаскиваю кожу. Я оставляю у рамки всю чушь и грязь длинных жизней; я аккуратной стопкой складываю бессмысленные воспоминания, прочитанные книги, несыгранные партитуры; я швыряю в зев урны белопенный куст сирени и жаркий шёпот за закрытыми шторами.
Я ступаю, оставляя окровавленные следы.
Я вновь прохожу через рамку: она вскрикивает в последний раз и перегорает. Красный глаз гаснет.
Тощий растерянно чешет лоб и кивает.
Всё проходит, все проходят; я прохожу, возвращаюсь в серый поток.
Утренний вал сползает вниз. Грохочут ржавые шестерни эскалаторов. Встаю справа, чтобы пропустить тех, кто торопится: они не в силах ждать, они хотят туда, вниз, как можно скорее, чтобы упасть, утонуть, забыть, разрушиться, рассыпаться пылью под раздвоенными копытами вечности. Исчезнуть, не вспоминать, не жалеть, не думать, не плакать – ни о чём. Не о чем.
Серая лента тоже спешит, уползает, лишает опоры, заставляя переставлять руку. Лента захватана потными пальцами, она похожа на шкуру гадюки, заляпанной папиллярным узором из семи миллиардов вариантов. Вцепляюсь в резиновую кожу змеи, глаз которой никто не видел. Вниз, вниз.
Сначала приходит тягучая волна спёртого воздуха. Кто и откуда его спёр?
После в чёрном горле появляются сверкающие яростью глаза. Левиафан воет, призывая жертвы; люди, идущие на заклание, покорно ждут. Двери, чавкая, распахивают пасти, толпа всхлипывает, покрывается потом и слезами – хозяин любит влажную пищу – и вваливается в утробу, забирая всех с собой, затягивая внутрь и тех, кто сомневается, и тех, кто не хочет. И тех, кому всё равно.
Меня сдавливают со всех сторон, топчутся по ногам, меня обнимают и дышат в лицо – но это не любовь; дикобразовые иглы протыкают дешёвые китайские куртки отравленных цветов, вонзаются прямо в сердце, заставляя корчиться.
– Вы верите в бога?
Их двое, близнецы в чёрном и белом, прилизанные, пустоглазые. Шелестят страницами брошюр, серыми, как их мысли. Мысли, сделанные из переработанной макулатуры.
– Почему это вас волнует? – отвечаю я вопросом на вопрос.
– Мы заботимся о вашем спасении.
У них татуировки на лбах: «девять-один-один». Три шестёрки подошли бы лучше.
Они бездарные ученики, прогуливавшие уроки. Пропустившие голос истины мимо ушей, свет её мимо глаз. Невежи, исказившие искажённую копию Истины, хотят рассказать мне о спасении. О том, как вырваться из кольца.
Я усмехаюсь. Несчастные, глупые пасынки. Троечники. Выучили обрывки, обглодали огрызки, торжественно внесли обломки в алтарь. Не их Он выводил из дома рабства, не их уговаривал слушаться. Не перед ними доказывал силу свою, не им являл могущество, раскалывая чёрные скалы, раздвигая море, превращая облака в манну и ману.
Кряхтя, ворочал плиты. Долго выбирал долото, пробуя острие прокуренным пальцем. Утирал горький пот, ломал ногти, обдирал кожу, выбивая буквы на камне. И когда нервный Моше расколол любовно сделанные доски, Он кривился, жалея о плодах труда, ругался последними словами. Вздохнул и начал по новой – а что поделать?
Дети всегда разбивают чашки и рвут книжки. А Ангелы, так и не поняв ничего, устав от никчёмных трудов, сжигают дочерна крылья, падают с небес и обрастают чешуёй.
* * *
Тьма за окнами. Тьма египетская, вавилонская, синявинская. Тьма распахивает зловонный рот, жадно тянет сквозь гнилые зубы, пытается пожрать, высосать мысли и души. Из века в век, из эпохи в эпоху – тьма.
Вагон дребезжит старыми сочленениями, воет от ужаса – прочь, прочь отсюда. Тьма пугает даже железо, что говорить о хрупких людях из полужидкого мяса?
Там, во тьме, кости тех, кто, изнывая от непосильной работы, строил Город. Кто надрывался под тяжестью деревянных столпов, тонул в вязкой жиже, умирал в сырых землянках от гнилой лихорадки. Спустя два с половиной века их разрывали снаряды, они сгорали в белом пламени пожаров, они умирали от голода; их обезумевшие глаза смотрят из тьмы, их проваленные беззубые рты умоляют:
– Хлебушка! Кусочек, крошку.
Тьма за стёклами вагонов.
– Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Парк Победы».
Я вздрагиваю, смотрю в потолок. Там, в сырой толще, не кости – пепел. Весной сорок второго, когда сошёл снег, трупы начали разлагаться, хоронить их было некому и негде. Их сжигали здесь, на Московском проспекте, в печах кирпичного завода. Сжигали восемнадцатилетние девочки, блокадные валькирии с ледяными глазами. Таскали бесконечные трупы, вывозили пепел в вагонетках – тоннами, десятками и сотнями тонн. Трупы музыкантов с нервными пальцами, невесомые тела юных художниц, обтянутые прозрачной кожей скелетики детей. Когда отгремят трубы, покинут сёдла Четыре Всадника и Он придёт в последний раз, юным художницам и ленинградским октябрятам будет не с чем явиться пред глаза Его: ни костей, ни черепов. Только пепел. Серый ветер, напитанный их крупинками, будет танцевать над цветами, будет петь их голосами, шептать об их мечтах и любви.
Тьма за вагонными окнами.
Зато тогда в стёклах кое-что отлично видно. Например, своё отражение.
Когда тьма – видишь себя.
* * *
Скрипит вагон – тьма за стеклом.
Скрипят колёсики: инвалид на самодельной каталке, обрубки замотаны скотчем, на голове – выцветший берет. Цвета выгоревшего неба над жаркой страной.
– Подайте… Копыта убрал! Дай проехать герою. Подайте на пропитание. Что, сука, пялишься? Деньги давай! Я за вас кровь проливал. У меня родственники в Афгане остались. Какие? Да ближе не бывает – ноги, обе две. Не жмись, дай рупь.
Люди вздрагивают, прячут глаза: ветеран тошнотворен, небрит, нетрезв. Кто-то решается:
– Голубчик, ну чего вы врёте? Какой ещё Афган? А ноги небось по пьяни? Под трамваем?
Ветеран закатывает глаза – белые, безумные. Выворачивает голову: жила на шее бьётся, словно змея в ловушке.
– Ыыть, суки!
В руке его ребристый зелёный плод. Радиус разлёта осколков – двести, всем хватит.
Я подхожу, обхватываю его ладонь. Прошу:
– Не надо, боец. Они не виноваты.
Ветеран хрипит:
– А кто? Кто виноват?
Я могу ответить вопросом на вопрос, но не стану.
– Давай вставим чеку обратно. Дай кольцо.
Ветеран смотрит на меня. Пристально, словно вглядывается во тьму. Вскрикивает:
– Батя, ты?! Позывной «Конрад»? Восемьдесят второй, Панджшерское ущелье.
Я молчу. Ветеран торопится, захлёбывается:
– Неужто забыл? Колонну накрыли, я мехводом, на «итальянку» наехал, передний бронелист завернулся внутрь – и мне по ногам. А ты вытащил.
Ветеран хохочет. Зубы у него через один, как сгнивший деревенский частокол.
– Напарник у тебя ещё был, Рамиль, позывной такой, хрен запомнишь, то ли «Джанкой», то ли «Жабий». А, точно, «Аждах»! Змей по-таджикски, да? Твой Рамиль вообще безбашенный.
Я морщусь:
– Он не мой.
Ветеран радуется:
– Вспомнил меня всё-таки, Конрад! На, возьми. Мне ни к чему, кто за такого пойдёт? Даже смерть не хочет.
Проволочное кольцо на грязной ладони. Я беру, вставляю, скрепляю усики гранаты. Теперь они навечно слеплены, теперь – одна плоть, и в горе, и в радости.
Ветеран ухмыляется:
– Прощай, Конрад. Привет Рамилю передавай. Славные были времена, славные люди. Хотя про вас всякую ерунду болтали, про тебя и друга твоего. Мол, и не люди вовсе, а… Врали?
– Он мне не друг, – повторяю я.
Станция. Вагон осторожно раздвигает двери, выдыхает с облегчением: ветеран выкатывается на перрон.
– Разойдись, суки. Дорогу десантуре.
Я смотрю на гранату, глажу прохладные рёбра. Икринка, из которой так и не вылупилась смерть. Прячу в карман.
Смотрю в тёмное стекло, на отражение: светловолосый синеглазый мальчик с разбитыми коленками в пятнах зелёнки, в руке – ореховая удочка. Шепчу:
– Я не Конрад. Я Тополёк.
* * *
Они вваливаются шумной стайкой: складные самокаты, нижегородский рэп в наушниках.
Лодыжки их голы, словно они дети, выросшие из своих штанов, но повзрослеть им не суждено. Девочка дружелюбно смотрит на меня, говорит:
– Знаешь, дядя, мне плевать на национальности, религии, тендер. Это – отстой. Все мы одинаковы внутри. Вернее, не одинаковы, а равноценны.
Я дружелюбно смотрю на девочку. У неё изумрудные волосы, будто голова разбита об жизнь и обильно полита зелёнкой. Многочисленные железки в ноздрях дрожат в такт словам. Пирсингом, как крючками, она цепляется за реальность, за ускользающую истину. Только истина не в реальности, девочка.
– Истина не в реальности, девочка, – говорю я. – Для вас истина – в играх. Вы играете всю жизнь, но не жизнью. Может, и к лучшему?
– Рофлишь, бумер? – смеётся она.
Поезд метро набирает ход. Теперь он не воет, а напевает что-то ритмичное, рифмованное.
Тьма за вагонным стеклом светлеет, подмигивает разноцветными брызгами.
Ленинград, февраль 1941
Папы нет уже восемь месяцев.
Толик спрашивает, почему командировка на Памир такая долгая. Осунувшаяся мама отводит взгляд, бормочет:
– Так вышло, Тополёк. Значит, он там нужен.
– Но ведь и дома нужен! Во второй класс меня не проводил – ладно, но Октябрьскую демонстрацию пропустил и на Новый Год не приехал. Ну сколько можно? Мама, давай пойдём к его начальству и скажем: пусть папе дадут отпуск, хоть ненадолго, на недельку. Ма-ам! Ну чего ты молчишь? Мама, ты что ли плачешь?
– Соринка в глаз попала, – мама отворачивается к окну.
– Хочешь, вытащу? Меня Серёжка научил, языком.
На кухню входит бабушка. Кашляет, долго ищет целую папиросу в пачке «Беломора». Говорит:
– Хватит реветь, слезами не поможешь. Там разберутся.
Мама поворачивается к бабушке, лицо у неё красное, злое.
– Ваши-то? Ваши разберутся, как же! Полстраны сидит, а вы всё разбираетесь. Не боитесь одни остаться?
Мама выбегает из кухни, запирается в ванной, включает воду. Но Толику всё равно кажется, что он слышит за шумом воды всхлипывания. Он рвётся туда, к ванной, чтобы стучать в дверь, ведь нельзя, невозможно – мама плачет! Бабушка не даёт – перехватывает, прижимает к себе. Гладит по голове, шепчет:
– Пусть, ей полегче станет, не будем мешать. Всё обойдётся, просто надо верить. Я письмо Кобе написала, передала с надёжным человеком. Должно помочь.
Толик не понимает: какое письмо, почему Кобе? Надо же папиному университетскому начальнику сказать, чтобы отпуск. Прямо по телефону, и номер на обоях записан, синие торопливые цифры, папа оставил, писал химическим карандашом, облизывал кончик. Он хочет сказать бабушке, но мешает Лариска – входит на кухню, требует:
– Даррмоеды! Горрох!
Раньше бабушка засмеялась бы и обозвала Лариску «треплом» и «меньшевиком грузинским». Раньше, восемь месяцев назад. А сейчас она не смеётся. Давно не смеётся. Гладит по голове и тихо повторяет:
– Просто надо верить.
– Веррить, – соглашается Лариска. – Горрох?
Толик выворачивается из бабушкиных рук – она даже не замечает, только продолжает шептать слово «верить». Толик достаёт банку, вынимает три горошины, протягивает на ладошке. Ворона аккуратно берёт, задирает голову, проглатывает одну, вторую. Третью берёт в клюв и уходит в коридор. Последнюю горошину она почему-то всегда уносит к бабушке в комнату и съедает там, чтобы никто не видел.
Бабушка чиркает спичкой, прикуривает и чуть не роняет беломорину – в дверь звонят.
– Одиннадцать вечера, кого ещё чёрт принёс? – удивляется бабушка.
Толик бежит к двери, бабушка шуршит тапочками следом. Распахивается дверь ванной. Мама, вытирая полотенцем мокрое лицо, шепчет:
– Не открывайте, не вздумайте. Это они. За нами.
– Глупости, – говорит бабушка и идёт по коридору.
Мама догоняет, хватает бабушку за руку, дёргает, кричит:
– Нет! Себя не жалеете, на сына наплевать – так хоть о внуке подумайте!
– Милочка, да у тебя истерика!
– Истеррика! – немедленно подтверждает из бабушкиной комнаты Лариска.
Мама бьёт бабушку по лицу. Бабушка отшатывается, хватается за щёку; Толик зажмуривается, затыкает уши: этого не может быть, это страшный сон. Сейчас зазвонит будильник и всё кончится.
Не кончается: пыхтение, всхлипывания, возня. Толик осторожно приоткрывает глаза и видит: бабушка идёт к двери, мама сидит на полу и плачет.
Бабушка зло гремит цепочкой, со скрипом поворачивает кругляш французского замка. Дверь открывается. На площадке тёмный силуэт.
– Ох! – вскрикивает бабушка и отступает, держась за сердце.
Толик хватает первое, что видит – лыжную палку – и бежит спасать бабушку от незнакомца.
– Что же вы, мама, – произносит незнакомец очень знакомым голосом. – Сына домой пустить не хотите? Войти-то можно?
Толик кричит, роняет палку и бросается к папке – тот подхватывает на руки, прижимает, говорит:
– Ну ты и вымахал, Тополёк! До неба.
Папа очень худой и загорелый. Одна линза очков у него треснувшая.
* * *
Полночь, но никто не гонит Толика в кровать, хотя завтра в школу. Мама хлопочет у плиты, вкусно шкворчат котлеты; весь дом пропах незнакомыми запахами, таинственными, южными. Папа открывает чемодан, достаёт свёртки.
– Здесь инжир, это изюм. Вот курага, орехи. Жаль, не сезон, я бы дыню привёз – ах, какие там дыни! Слышишь, Тополёк? Ум отъесть можно, вот какие дыни!
– Это плохо, – говорит Толик. – Как без ума задачки решать? Я и так по арифметике «посредственно» схватил, там дроби, трудные!
– Ты, брат, не переживай, разберёмся с дробями. Это тебе. Настоящие.
Толик ахает: часы в стальном корпусе, на потёртом кожаном ремешке, с надписью «Командирские».
– Спасибище, папка! Вот это подарок!
Толик забирается к отцу на колени, утыкается носом в загорелую шею. От папы пахнет пылью, солнцем, ещё чем-то – загадочным, далёким.
– Продержали два месяца, потом на подписку, – продолжает рассказывать папа.
Бабушка кивает. Толик запоминает незнакомые слова: «подписка», «в особо крупном», «прокурор». Надо будет потом спросить.
– Словом, по мне дело закрыли. А Рамиль Аждахов так и парится. Хорошо, хоть на подписке поработать удалось, материалов утеряна половина да перепутана, пока разобрал – замучался. Экспедиция-то, считай, провалена. Геологов вообще перебили, а там самый большой массив документов, пытались меня заставить, еле отбоярился. Говорю: «Товарищи, имейте совесть, я же ничего не понимаю в этих ваших кроках и таблицах, вызывайте специалистов». В республиканском Совнаркоме странные люди сидят, сплошь нацкадры. Думают, если учёный – значит, во всём разбирается, без разницы, астрономия или ботаника.
– А врали, с басмачами покончили давно, – замечает мама.
– Не хочу про это. Зато я такой образец привёз! Настоящая сенсация, переворот в палеонтологии. Жаль, не мой профиль, а то бы докторскую…
– Подумаешь, профиль, – говорит бабушка. – Главное, научного руководителя правильно подобрать. Кто у вас там главный по динозаврам, Губарев?
– Он. Он же учёный сосед, первым чёрный шар кинет, скажет: «Не может такого быть, потому что не может быть никогда».
Папа, мама, бабушка хохочут. Толик крутит головой, глядя на всех по очереди, и тоже начинает смеяться.
И будто не было восьми грустных месяцев без улыбок.
* * *
Ленинград, март 1941
Каникулы. На улице кошмар: снег то тает, то вновь сыпет, ветер с залива хлещет мокрой тряпкой по лицу. Снеговик во дворе наполовину растаял, покосился: расплылись угольки-глаза, кажется, что он плачет чёрными слезами.
Тётя Груша запретила Серёжке на улицу, сидят у Горских. Сначала запирались в ванной, смотрели, как светятся стрелки и цифры на циферблате командирских часов.
– Здоровско, правда? Вот пойдём в ночную разведку, и сразу видно, сколько время.
– Эх, тетеря ты, Тойвонен! Не «сколько время», а «который час».
Потом устроились на кухне. Тойвонен принёс командирский календарь на сорок первый год – толстую серую книгу с картинками. Ребята пролистывали неинтересное, про колхозников и физкультурников, читали про Красную Армию и Флот, статьи о прошлых и будущих войнах. На картинках – эскадры многомоторных бомбардировщиков и танковые армады. Вот линия Мажино: громадные бронеколпаки с пушками, подземные многоярусные галереи, где спрятаны снарядные погреба, казармы, кинотеатры и сортиры. Серёжка смеётся:
– Трусишки французики, под землю закопались, думали отсидеться. А англичашки – за морем. Ничего, вот немецкие товарищи соберутся с силами и дадут им шороху! Французикам уже дали.
Толик соглашается: трусы и есть, буржуины жирные. Им бы только пролетариат грабить, а воевать не умеют. Серёжка просит:
– Давай поглядим?
Толик не решается: в родительскую спальню нельзя, мама ругает. Но сейчас мама и папа на работе, а бабушка ушла выступать перед рабочими, рассказывать про Гражданскую войну.
– Ладно, пойдём.
Идут на цыпочках, будто кто-то может услышать. Немедленно появляется Лариска, ругается:
– Дррянь, иррод, диверрсант.
Серёжка вздрагивает, замирает. Тихо спрашивает:
– Не налягавит? Нагорит тебе.
– Не должна, – неуверенно говорит Толик. – Ну чего ты, Лариска? Не тарахти. А я тебе гороху дам.
– Горрох, – соглашается Лариска.
Успокоенный Толик поворачивает ключ в замке, входят.
У ножика тёмное широкое лезвие, наборная ручка.
– Узбекский, называется «пчак», – объясняет Толик.
Серёжка осторожно трогает, довольно жмурится: острющий! Подходит к полке, гладит стекло. Банка огромная, как ведро, и с широким горлом.
– Специальная, из лабола… лаборатории, – с трудом выговаривает Толик. – Вдвоём пёрли, папа и его товарищ по работе. Там сказали: не надо в университет, какой-то начальник на папу накричал, обозвал «фасли»… «фалси»… Фикатором, словом.
– На фик послал, – кивает Серёжка. – Ну и хорошо, зато мы теперь можем посмотреть, кто бы нас в университет пустил?
Толик включает свет. Синеватая жидкость в банке блестит, и блестит жёлтый глаз с вертикальным зрачком. Серёжка ахает, как всегда: ящер и вправду страшный. Тёмно-зелёная пятнистая шкура, беззащитно-белое брюхо, гребень вдоль спины. Четырёхпалая лапа изнутри прижата к стеклу, словно хочет выдавить, словно ящер желает вырваться из прозрачного плена.
– Змей Горыныч, – шепчет Серёжка. – Только совсем маленький. Голова-то одна, ещё две не выросли. Хорошо, что твой папка его в банку засунул, а то бы летал тут с огнемётом в роте…
– Во рту, – поправляет Толик.
– Ладно, пусть во рту, какая разница? Главное, огнём бы плевался, пожёг нам всё.
– Чего бы он летал? Не самолёт, крыльев-то нет.
– Говорю же, маленький. Вон, бугорки на спине. Не выросли ещё крылья.
– Теперь уже не вырастут, – успокаивает Толик. – Он же дохлый.
– Не знаю, – шепчет Серёжка. – Мне кажется, он просто спит, вот как медведь в берлоге, как тепло настанет – проснётся. Гляди, лапу тянет.
Толик смотрит на прижатую к стеклу драконью ладошку, ему становится не по себе. Нарочито смеётся:
– Фантазёр ты! Он же заспиртованный, не проснётся.
– Ну и что? Вон сосед ваш, Артём Иванович, розовый который. Всё время заспиртованный, пьёт, а каждый день просыпается.
– Да ну тебя, хватит жути нагонять.
Толик храбро шагает к банке, прикладывает к стеклу ладошку – как раз напротив драконьей. Вдруг в глазах вспышка, всё плывёт: Толик видит облака, внизу – огоньки деревень, разлинованная пашня; за спиной у Толика – широкие кожистые крылья, ловящие восходящий поток… Грудь распирает сила, но особенная, добрая и злая одновременно: добрая к людям, злая к их глупости. Во рту копится огненная слюна, в глазах – слёзы. Толик направляет себя к земле, пикирует, сложив крылья; ревёт ветер в ушах – громче, громче; земля несётся навстречу, удар, тьма…
– Очнись, Толик, ты чего?
Капли воды стекают по щекам, словно слёзы: Серёжка притащил кружку с кухни, брызгает в лицо.
– Толичек, родненький, вставай, хватит притворяться!
Толик открывает глаза, Серёжка отшатывается: ему кажется, что глаза у друга жёлтые, с вертикальными зрачками.
Толик с трудом поднимается, шепчет:
– Пойдём отсюда. Ерунда всякая мерещится.
25. Двадцать второе сорок первого
Город, лето
– Вот такие дела. И не отвертеться, у этого Акселя губернатор с ладони ест. Боюсь подумать, какие у него возможности.
Макс удивился:
– Зачем отказываться? Такие деньжищи даёт. И этот проект, «Русазия». Мы же работой будем обеспечены лет на пять вперёд.
Макс в камуфляже, тонкая шея торчит из широкого ворота, как лом из унитаза, грубые берцы вместо пижонских сникеров: после работы едет заниматься любимым хобби, пейнтболить с дружками из нацсоюза. Look обязывает: Макс необычайно мужественен и преисполнен суровости.
– Наконец-то настоящим делом займёмся, мощным делом, а не гербами для говнососов. Русская идея – это не жук чихнул, это надолго.
Игорь помрачнел. Теребя «паркер», посмотрел в окно. Елизавета, как всегда, поняла шефа без слов:
– Макс, эти игры плохо кончатся. Не боишься, что очистка до тебя доберётся? У тебя там и евреи, и татары в роду, так? Припомнят свои же товарищи, распнут публично. Я уж молчу про твою, так скажем, особенность.
Макс вскочил, побледнел:
– Что, что тебе не так? Особенность! Каменный век. А национализм – это актуально и современно.
– У меня-то всё так, в отличие от. У немцев тридцатых поинтересуйся, как там с современностью. Напомнить, кто в концлагерях с розовым треугольником щеголял?
– Хватит! – крикнул Макс. – Я уйду сейчас.
– Действительно, хватит, – сказал Игорь. – Сейчас не про твои увлечения. И никуда ты не пойдёшь, пока не решим.
Макс сел на стул, гремя амуницией, сложил руки на груди, всем видом демонстрируя отстранённость.
Игорь вздохнул. Начал говорить медленно, словно наощупь:
– С одной стороны, ничего криминального Аксель не предлагает. Всего-то ему сообщить, когда у нас появится Конрад.
– А он появится? – спросила Елизавета.
– Теоретически должен, – неуверенно ответил Игорь. – Для него есть материал по семье, он такие штуки чувствует, что ли. Аксель предположил, что у него и другие резоны искать меня. Глупость, конечно, но в этом присутствует своеобразная логика.
Макс хмыкнул:
– Да ну, никакой там логики. У дяди просто крыша едет. Тридцать второго года рождения, как же. Ему полтинник максимум. И Аксель твой хорош: изумруд с кулак, ага. Спецслужбы всего мира разыскивают, как же. Игорь, спецслужбы в Африке целые месторождения отжимают, что им один камешек, пусть даже очень большой?
– Это не просто изумруд, это символ. С необычными свойствами. Я сам видел, как Конрад своротил мраморную столешницу весом в пару центнеров, да и те материалы из архивов, что Савченко передал… Мы явно столкнулись с чем-то необычным, с чем-то очень интересным. Ты прав, Макс, дело стоящее. Только не в том смысле, который ты вкладываешь. С Конрадом связана какая-то тайна, а историческая тайна – наша профессия.
– Так, шеф, – кивнул Макс. – Вот и найди Конрада, слей Акселю, а уж «Русазией» мы займёмся, я тебе результат гарантирую.
– Так оно так. Но сливать – это по-свински, не находишь?
– Глупости, шеф! Правильные пацаны не стучат? Трудное детство девяностых в жопе заиграло? Ты же мечтал вернуть обществу поэта Георгия Цветова, памятник, музей, вот это всё. Если Аксель столько платит, там на всё хватит, хоть на мемориал и издание полного собрания сочинений в миллион экземпляров. Тебе само в руки плывёт, а ты упираешься. От таких шансов не отказываются, шеф.
С улицы раздалось громовое:
А в чистом поле
Система «Град»…
– Всё, ребята приехали, – заторопился Макс. – Я своё мнение высказал, надо соглашаться. Всем пока!
Игорь смотрел в распахнутое окно, как бородатые мужчины в камуфляже с многочисленными нашивками и значками дружеским рёвом встречают Макса, рассаживаются в открытом «виллисе», трогаются. Пробормотал:
– Радуется, дурачок. Они же его сами грохнут, когда узнают.
– Может, и не узнают. Что, шеф, тяжело решиться?
– Трудно, да.
Елизавета подошла, положила руки на плечи, заблестела глазами. Тихо сказала:
– Ты всё правильно сделаешь. Ты мудрый, смелый. Ты очень хороший, шеф.
– Только как шеф хороший? – усмехнулся Игорь.
– Там запятая была. Я тебе доверяю полностью, как решишь, так и будет. Захочешь – пошлём этого Акселя, не убьёт же он нас, в конце концов. А хочешь – ляжем под него всей конторой. Макс прав, такой шанс раз в жизни бывает, кто ещё столько денег частной исторической фирме предложит?
– Ляжем, значит. И ты первая, да?
Елизавета отшатнулась.
– Тяга скатываться в пошлость – один из немногих ваших недостатков, Игорь Анатольевич. Пойду я, отчёт надо готовить.
– Ты чего, обиделась? Кончай.
– Так кончать, без прелюдии? Всё, Игорь Анатольевич, ушла.
Хлопнула дверь.
Игорь пробормотал:
– Ишь, фыркает, кошка. Ляжет она. Я, может, ревную.
Посмотрел в окно: гремели трамваи, ворковали голуби, молодая листва хихикала в ответ на лёгкие приставания ветра, по тротуару шагали, смеясь, неприлично юные девчонки.
Июнь.
* * *
Город, лето
Скрипят трамваи, птичьи крики отражаются от стен колодцев Петроградки, многократно усиливаются, бьют в небо из раструбов дворов, как из зенитных орудий.
Мимо проехала на «виллисе» компания: жёлто-зелёные пятнистые куртки, тяжёлые берцы, которыми так удобно наступать на головы убитых, закатанные рукава – всё как у тех, в июне сорок первого. Обнажённая кожа в узорах татуировок, словно в тенистых разводах, будто они пытаются закамуфлироваться полностью, исчезнуть, спрятаться, а действительность вытаскивает их за ушко с казацкой серьгой, да на солнышко.
Юное, умытое утренним дождём солнце улыбается городу, любуется широкими проспектами, беспечными лицами, слушает обрывки треков; всё так мило, так празднично, будто не было и не будет смертей, мучений, трупов на улицах.
Шелестя шинами, за мной крадётся машина с тонированными стёклами. Остановилась. Скрипнула дверь; за спиной – торопливые шаги.
– Анатолий Ильич Горский?
Оборачиваюсь. Двое с ординарными лицами, в неприметных костюмах, левые подмышки топорщатся. Пытаются изображать равнодушие и сдержанность, но видно: радуются, как таксы, нашедшие крысиную нору. Были бы хвосты – стучали бы сейчас по серым бокам.
– Садитесь в машину. С вами хотят поговорить.
– А я не хочу ни с кем разговаривать.
– Не вынуждайте нас применять силу.
Это забавно. Мальчиков распирает от собственной значимости, тяжесть под мышкой придаёт им уверенность, дарит право на наглость.
Я вынимаю руку из кармана плаща. Тычу в небо:
– Ребятишки, на силу всегда найдётся другая.
Они смотрят вверх, замирают, отвалив челюсти. Они видят армады «юнкерсов», слышат низкий гул баварских моторов.
Я гляжу на их растерянные лица, разом утратившие значительность. Как у тех мальчиков-зенитчиков двадцать второго ноль шестого сорок первого.
Хороший был день. С утра.
* * *
Ленинградская область, июнь 1941
С утра хороший день.
За окном уже привычная дачная симфония: петухи, соседский граммофон с «рио-ритой», скрип калитки, мягкий тягучий акцент молочницы.
– Со-офья Моисеевна, тере омикуст.
Толик сбрасывает одеяло, смотрит на друга. Серёжка сопит, на лице бродит улыбка, царапина на плече подсохла: лазили вчера через забор, да без толку, клубнику уже собрали, а соседский Трезорка, обычно добродушный, вдруг вспомнил службу и погнался всерьёз, заходясь в лае и скаля жёлтые клыки.
– Серый, просыпайся.
Друг приоткрывает один глаз. Просит:
– Ещё минуточку.
– Вставай, соня, сегодня воскресенье.
– И что?
– Мамки приедут, вот что. Поезд в одиннадцать тридцать.
Тойвонен хлопает белыми ресницами, тоже сбрасывает одеяло, садится.
– Точно! Конфет шоколадных привезут.
– Тебе бы только конфет!
Толик смеётся, и вдруг за окном:
– Песню запе-вай!
И следом гремит в полсотни крепких глоток:
По долинам и по взго-орьям
Шла дивизия впе-ерёд…
Толик и Серёжка вскакивают и несутся наперегонки, по нагретым солнцем скрипящим половицам, мимо бабушки и молочницы Марты.
– Куда без штанов? – кричит бабушка.
По зелёной траве, наступая босыми ногами в холодные куриные какашки, вдоль забора, под надрывный, переходящий в кашель лай Трезорки, вдогонку за строем.
Красноармейцы подмигивают, улыбаются; Толик и Серёжка подбирают ногу, шлёпают по пыли, подпевают:
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни…
Усатый старшина с четырьмя треугольниками в голубых петлицах ворчит:
– А ну, огольцы, не мешайте. Рота, бегом – марш!
Красноармейцы переходят на рысь, топочут тяжёлыми сапогами. Летний лагерь у них близко, два километра, да только туда не пускают часовые с настоящими винтовками.
Мальчишки стоят, машут, кричат бестолковое, радостное:
– Эге-гей! Да здравствует Красная Армия!
– Нам Сталин дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор!
Рота убегает по жёлтой дороге, покрывается пылью, исчезает.
Толик смотрит на себя, на друга, прыскает:
– И вправду, чего это мы? В одних трусах. Пошли, нагорит нам от бабушки.
* * *
Скрипят доски перрона, гуляет дачная публика: прибытие поезда из Ленинграда – событие. Мальчишки подкрадываются к бронзовому колоколу, но нарываются на строгого дядьку в фуражке:
– А ну, не балуй, молодёжь!
– Да мы чего? Мы только посмотреть.
– Это вам не цирк с обезьянами, чтобы смотреть. Сигналы положено подавать кому положено, ясно?
– Ясно, дяденька, чего злиться?
– Того. Давеча вот такие же в колокол звенели, переполох устроили, а это не игрушки, тут наркомат путей сообщения, понимать надо.
Мальчишки хихикают. Бабушка кричит:
– Анатолий, Сергей, куда сбежали? Идите сюда, стойте рядом. Хватит шлындать, запачкаетесь ещё, что я вашим матерям скажу?
Бабушка заставила вымыться, расчесала каждого гребешком – то ещё мучение.
Тётка ходит по перрону с корзиной вялых пионов, цветы огромные, как капустные кочаны:
– А вот кому? Цветочки, цветочки, всего пятнадцать копеек. Ты чего тут, мальчик?
– Маму встречаем.
– Какой хороший мальчик, молодец! Пионер?
– Был бы пионер, надел бы галстук, тётенька, – строго говорит Серёжка. – Понимать надо. В тот год, может, примут, если заслужим.
– Примут, примут. Купи маме букетик, всего полтинник, за сорок копеек уступлю.
– Вот ещё. Вашими цветами только корову кормить.
Тётка теряется, пучит глаза, распахивает рот, чтобы осадить нахала, но не успевает: ревёт паровоз, выскакивает из-за поворота, таща компанию зелёных вагонов. Публика оживляется, строгий дядька бьёт в колокол, бабушка хватает мальчишек за руки, словно маленьких:
– Толпа-то какая, не потеряйтесь.
– Небось не детсадовцы, не потеряемся, – ворчит Толик.
Вытягивает шею, смотрит: пассажиры вываливаются из весёлых вагончиков, смешиваются с толпой.
– Вон, вон они!
Мама в нарядном платье, жёлтые волосы рассыпались по плечам. Ставит корзину, обнимает, целует в макушку, в щёки, в уши – куда попало.
– Загорелый какой! Соскучилась по тебе, Тополёк!
Толик выворачивается из маминых объятий, отпрыгивает. Сурово говорит:
– Что меня целовать, я не девчонка!
Мама растерянно улыбается. Серёжка уже весь перемазан шоколадом, и когда успел? Тётя Груша тарахтит без умолку:
– Еле успели, транвай-то полный, и не влезть. Говорю: подвинтеся, гражданин, у нас поезд, опоздаем, уступите даме. Транвай чай не таксомотор, вагон опчественный.
– «Транвай опчественный», – передразнивает бабушка. – Агриппина, дама из тебя, прямо скажем, как из говна пуля, никудышная дама. Учу тебя, учу, всё без толку, а ещё жена красного командира, орденоносца.
– Да ладно вам, Софья Моисеевна. Бывшего же командира, нынче на заводе, в конторе.
Идут через посёлок, Серёжка жуёт безостановочно: тётя Груша достаёт из корзинки, разворачивает фантики и фунтики, суёт сынуле вкусности. Бабушка ревниво замечает:
– Что ты в него пихаешь, будто он с голодного острова? Нормальное у них тут питание, здоровое.
Толик взахлёб рассказывает маме про красноармейский лагерь, футбол на поляне, хозяйскую кошку, разродившуюся полудюжиной котят; про лес и рыбалку. Доходят до площади. Народ толпится у столба, на котором постоянно гремит радио. Что-то не так. Люди растерянные, будто упала – на всех одновременно – какая-то страшная тяжесть.
– Граждане и гражданки Советского Союза!
Толик и Серёжка крутят головами, смотрят на взрослых, пытаются разглядеть в помрачневших лицах причину.
– Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
Мама охает, хватается ладонями за щёки, шепчет:
– Война…
Толик не понимает: ведь война – это весело, лихие эскадроны несутся, сверкая шашками, громадные танки вдавливают испуганных врагов в грязь, ревут краснозвёздные птицы-бомбовозы, сыплют яйцами-бомбами, из которых вылупляются алые фонтаны взрывов. Всё как на картинках в командирском календаре на сорок первый год. Говорит Серёжке:
– Здоровско же, скажи?
Друг кивает и улыбается. Шепчет:
– Сбежим на войну?
– Конечно! Только не тянуть, их же Красная Армия разобьёт за неделю, надо спешить.
* * *
Город, лето
Надо спешить.
В воздухе что-то копится, словно набухают за горизонтом грозовые тучи. Копят злую силу, чернеют, прорываются сполохами молний и тут же прячут их за тяжёлыми складками – сегодня рано, а завтра?
Завтра они вывалятся из-за мембраны, разделяющей сейчас и потом, станут нашей действительностью – свинцовой, неустранимой. Семь десятков лет я коплю чужую боль, делая своей, но не спасая; семьдесят лет я мечусь по планете, чтобы предотвратить, – и не успеваю, опаздываю на миг или на год, без разницы, ведь последствия всегда одинаковы.
Пока я спасаю десяток, гибнут тысячи, а миллионы гниют изнутри, гниют и превращаются в зомби, в выродков, в человекоподобных роботов; они не слышат чужой боли и не осознают своей – так зачем?
Эти миллионы с плакатами, на которых фотографии погибших, не служат памяти прошлого. Они – будущее, они сейчас закладывают возможность для следующих поколений выйти на улицы с другими плакатами, на которых будут лики нынешних, мечтающих повторить.
Наша земля словно выморочная, словно отравленная древним ядом; вместо того, чтобы рожать хлеб и цветы, она копит несущие гибель орды. Почему? Зачем?
Рамиль знает ответ. Я чувствую: он ищет меня, бродит по раскалённому асфальту, нюхает следы. И серые в стандартных костюмах, и земноводный с острыми зубками, и этот мальчик-историк – они все меня ищут, а я ищу возможность спасти тех, кто в спасении не нуждается, кто не хочет спасения, а хочет только гибели.
Громыхает за горизонтом.
Я смотрю в раскалённое небо: голубое превращается в холодное, свинцовое, в крышку гроба. Город накрывает непроницаемой серой дрянью. Нет, это не июнь, это февраль сорок второго: идёт снег, милостиво накрывает саваном улицы, скелеты трамваев, недвижные тела. Вот девочка. Когда-то она была Татьяной Дубровской, комсомолкой, студенткой художественного техникума – а теперь у неё ни имени, ни лица, ни ягодиц. Пальто, повязанный на талии пуховый платок, юбка – всё задрано, чёрные ямы вместо гладких когда-то полушарий, и почти нет крови, она кончилась, исчезла, высохшие вены опустели ещё при жизни. Лежит на снегу ненаписанное письмо, трепещет, словно мёртвая бабочка силится взмахнуть пепельными крылышками.
«…Ты не прочтёшь это письмо. Потому что я не пишу его. Я лежу ничком – меня перевернули лицом в снег. И того, чего касались твои жаркие пальцы, что ты называл „попунцом“ и „алебастровыми холмами“, у меня больше нет – их отрезал тупым ножом человек с оловянными глазами, и уже варит супчик. Руки, которые ласкали тебя, высохли и превратились в вороньи лапы; глаза, которые ты целовал, больше не могут ни светиться, ни плакать – они вымерзли, стали свинцовыми каплями…»
В моём Городе теперь никогда не будет ни весны, ни лета.
Только зима.
* * *
Город, зима, июль 1941
Папа ушёл в ополчение. Когда мама узнала, то охнула и заплакала, тихо, бессильно, словно навсегда обиженный ребёнок. Она не говорила прощальных слов, не бросалась папе на грудь – только стояла у стенки и комкала платочек.
Бабушка спросила:
– Куда тебе, Илья, с твоим желудком, с плоскостопием?
Вид у папы был совсем не героический: вытертая шинель с чужого плеча велика, шея как у птенца, тянущегося за червячком, одна петлица оборвана, только нитки висят, а пилотки ему не досталось, на голове осталась гражданская кепка, Толик даже поморщился. Тяжёлая винтовка сползала, торчала из-за плеча нелепо, папа постоянно поправлял ремень, и они были настолько чужими, папа и винтовка, настолько не совпадали, что от этой картины становилось стыдно.
Папа потрогал очки, сказал:
– Все идут, мама. И Гуревич, а у него диабет и зрение минус пять. Тут уж не до капризов, немцы под Лугой.
Толик подскочил, уткнулся в жёсткую шерсть, пахнущую чужим, какой-то махоркой и перловой кашей, прошептал:
– Ты всех победишь, папа, всех фашистов!
– Несомненно, Тополёк, – сказал папа.
Никого не поцеловал, не обнял, развернулся и пошёл вниз по лестнице.
Толик выскочил на площадку, смотрел на сутулую спину, на размотавшуюся обмотку на левой ноге: было страшно, что папа наступит на неё, споткнётся и упадёт, но Толик ничего не сказал, только продолжал махать рукой.
Потом часто снилась эта обмотка: она ползла по ступеням и шипела, как гадюка. А Толик убегал от неё, но ноги вязли, словно в болоте.
Было страшно.
Город, зима, сентябрь 1941
Занятия в школе так и не начались, но дел хватало: по улицам маршировали роты самых разных родов войск, ездили грузовики, напротив булочной вырубили сквер, обложили пятачок мешками с песком и установили зенитное орудие, мальчишки бегали туда, но часовой не пускал, наставлял длинный штык и ругался:
– А ну, шантрапа, разбежались! Здесь вам не кинотеатр.
Один раз даже встретился бронеавтомобиль, настоящий, в облупленной зелёной краске. Броневик пах машинным маслом, порохом и ещё чем-то невообразимо героическим. Со скрипом распахнулась тяжёлая дверца, высунулся чумазый механик в чёрном комбинезоне, в ребристом шлемофоне и принялся озираться. Увидел Серёжку и Толика, улыбнулся (белые зубы сверкнули на фоне кожи в грязных потёках) и сказал:
– Привет, мальки! Где тут на Кировский проспект поворачивать? Заплутали.
Серёжка так оторопел, что разинул рот, да и не закрывал, а Толик не обиделся на «мальков» и стал объяснять – чётко, без лишних слов. Рубил ладошкой воздух, показывая направление – специально левой рукой, чтобы красноармеец видел командирские часы на запястье:
– Прямо метров сто, направо по Коммунарской, там налево – и вот он, Кировский!
– Спасибо, мальки, – весело сказал чумазый. – Чем вас отблагодарить-то? Нате вот.
И протянул патрон, настоящий, блестящий, в смазке: пуля с хищным красным носом, золотая гильза. Серёжка очнулся, закричал:
– Спасибо, дяденька!
Улыбчивый скрылся внутри брони, дал газу; заревел двигатель, машина тронулась и унеслась на фронт, бить фашистов. Толик хмыкнул:
– Эх ты, Тойвонен! Какой он тебе дяденька?
– А кто же?
– Младший сержант бронетанковых войск, вот кто!
– Ладно, растерялся чуток. Покажи патрон.
Потом бегали взглянуть на сбитый самолёт, но туда не пускали, в оцеплении стояли строгие милиционеры, пришлось смотреть на разбитого стервятника издалека: покорёженная груда, а из неё торчит хвост с ошмётками стабилизатора, и белый крест, словно над могилой. Серёжка сказал:
– А лётчиков-то не видать! Небось, выскочили на парашюте да спрятались где-нибудь. Давай найдём и возьмём в плен!
Толик подумал сначала, что ерунда, но потом загорелся идеей: действительно, поймать фашистов было бы здорово.
– В «Пионерской правде» напишут, – мечтал Серёжка. – Храбрые октябрята Сергей Тойвонен и Анатолий Горский пленили экипаж немецко-фашистского бомбардировщика. Ещё и с фотографией! Только у них оружие, наверное, вдруг стрелять начнут, а у нас один патрон на двоих, да без винтовки.
– Куда им отстреливаться, – неуверенно сказал Толик. – Они шибко с неба долбанулись, только тапочки в стороны. Небось без сознания.
Но на всякий случай достал и раскрыл перочинный нож. Серёжка нашёл палку покрепче, и друзья принялись обыскивать ближние дворы. Район был незнакомый, постоянно приходилось натыкаться на какие-то заборы и запертые ворота, густые колючие кусты и ворчливых тёток. Серёжка рассердился:
– Гады эти фашисты, не могли над нашей улицей сбиться, уж тогда бы мы их живо за ушко – да на солнышко!
Лазили долго, до самого вечера, проголодались, Толик порвал штанину о гвоздь в заборе, Серёжка весь перемазался в смоле. Пришлось идти домой без пленных и трофеев.
Толик сказал:
– Ну ничего, в следующий раз найдём. Подготовимся получше, фонарик возьмём. Не уйдут, захватчики, будут знать, как нападать на мирный советский народ!
* * *
Город менялся.
Обрядился в гимнастёрку и шинель, натянул стальной шлем.
Стал строже, хмурил брови светомаскировки, прикрывал украшения мешками с песком, красил золотые купола в хаки. Небо превратилось во врага. Город по ночам резал опасную черноту острыми лезвиями прожекторов, днём выгонял пастись стада толстеньких аэростатов, но это мало помогало – небо изрыгало огонь, рожало стаи бомб, поджигало крыши.
Грохотала артиллерия, Пулковские высоты рыгали роями грозных ос; снаряды неслись, вынюхивая стальными жалами жертвы, пробивали стены, разрывали тела.
Утром пополз с южной стороны удушливый дым, кто-то крикнул, что немцы применили газы; ночью небо над Бадаевскими складами зловеще светилось багровым: горело продовольствие, мука полыхала, как порох, расплавленный сахар впитывался в землю. Горели, впитывались в землю жизни ленинградцев – тысячи, десятки тысяч.
Снаряд угодил в трамвай, убило всех пассажиров, по остановке хлестнуло волной осколков, мальчик кричал, дёргая за перебитую руку:
– Мама, вставай, хватит притворяться!
Тётя Груша пришла белая, с дрожащими губами. Мама торопливо поставила чайник, стала гладить гостью по плечу. Бабушка сердито сказала:
– Ей не чай нужен, принеси, у меня там, в шкафу, стоит за «Капиталом».
Налила половину чашки с синей розой, заставила:
– Давай, Агриппина, это хороший коньяк, мне на майские выдали от райкома. Берегла для случая, вот и случай. Пей, говорю, не морщись!
Тётя Груша проглотила, закашлялась, но и вправду стало лучше – порозовела, заблестели глаза.
– Вот, другое дело. Что стряслось? С мужем что-то? Так он у тебя же нестроевой, инвалид.
– Из-за него, ирода. Угораздило замуж выйти за такого, чтобы ему пусто было, чухонцу.
– Но-но, ботало попридержи. У нас страна интернационалистов, причём тут «чухонец»?
– А притом! Вывозят нас. Всех финнов, в домком вызывали. Сказали, «как неблагонадёжных». Это кто, мы неблагонадёжные? Он-то красный командир, на фронтах калеченный, орден Красной Звезды сам Калинин вручал. В двадцать четыре часа, вещей – один чемодан на человека.
– Делать им нечего, – возмутилась мама. – Лучше бы гражданское население вывозили, изверги.
– А ну, прикусили язычки, балаболки! – прикрикнула бабушка. – Ишь, раскудахтались, курицы безмозглые, народная власть им изверги. За такое сейчас – к стенке по законам военного времени, и правильно.
Тётя Груша вздрогнула, зарыдала в голос, мама зажала рот рукой. Бабушка зыркнула: Толик понял, схватил перепуганного Серёжку за руку, потащил:
– Пошли, пошли. Я тебе ящера покажу.
Бабушка сказала:
– Идите, дети, нечего всякую чепуху слушать. А ты, Агриппина, не реви, решение в целом верное, но есть же исключения, я в райком схожу.
Серёжка совсем раскис: не стал смотреть на ящера в банке и от патрона отказался, который Толик таскал в кармане с того самого дня, как был награждён за помощь чумазым механиком броневика.
Тойвонен сидел на табуретке, скукожившись, и ныл:
– Получается, мы теперь финские шпионы? Нечестно так, я ведь не шпион, а наоборот совсем. Скажи, Толик?
– Конечно. Ты ленинградец, советский октябрёнок. Меня спросят, так и расскажу: про то, как мы красноармейцам помогали, как шпионов ловили. И про «Сталинского дракона».
– Точно! – обрадовался Толик. – С красными звёздами. Жаль, улетел, не показать кому следует.
– Может, не улетел, а наоборот, вернулся. Защищает сейчас город, гоняет фашистских гадов.
* * *
Вторая эскадрилья первой группы взлетала с базового аэродрома в Гатчине; гауптман Вольф дождался, когда последняя машина займёт место в строю, и повёл эскадрилью на север, к Финскому заливу: согласно плану, предстояло атаковать со стороны моря, с неожиданного направления.
Ровно гудели моторы «юнкерса». В небе ни облачка, видимость «миллион на миллион», настроение отличное. Гауптман напевал из «Тангейзера», и командир второго звена не преминул подпустить шпильку:
– Клаус, ты зря не пошёл в оперу, там бы карьеру сделал гораздо быстрее.
– Да уж, куда там Фрику Готлибу, – немедленно отозвался пилот третьего. – Если кто и должен быть украшением Дрезденской оперы, так это наш старина Вольф. Только подкормить его, а то брюхо маловато, первое для оперного певца – это брюхо, там тощих не держат.
Гауптман усмехнулся и строго сказал:
– Прекратить болтовню в эфире. Поворот через минуту тридцать.
Стрелок заметил:
– Внизу большевистское корыто, засекли. Будет сейчас пыжиться.
Русский эсминец стрелял торопливо, белые хризантемы разрывов цвели ниже метров на двести; гауптман повёл машину в противозенитный зигзаг, ведомые послушно повторили, обстрел прекратился. Вот и зелёный купол собора Изаака, гауптман сориентировался, довернул на боевой курс, крикнул бомбардиру:
– Фриц, твой выход.
Бомбардир не ответил: припал к прицелу, сжимая рукоятку сброса; гауптман вёл машину ровно, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для точной бомбёжки; когда ударило в фонарь, Вольф вскрикнул, дёрнул штурвал влево; повторяя манёвр командира, вся эскадрилья сбилась с курса, тяжёлые бомбы посыпались куда-то к чёрту, мимо цели, в Неву…
Когда сели на гатчинском аэродроме, бомбардир мрачно спросил:
– Что это было, Клаус?
Гауптман раскрыл портсигар, с трудом выковырял сигарету. Дрожащими пальцами долго крутил колёсико зажигалки, когда прикурил – ответил:
– Ты не поверишь, Фриц. Дракон с красными звёздами на крыльях, прямо в лоб.
Бомбардир хмыкнул:
– В отпуск бы тебе…
Гауптман не ответил. Молчал, курил и смотрел в синее-синее небо; показалось вдруг: белая точка в зените, игрушечный планер из тонких реек и папиросной бумаги.
– Доннерветтер!
Раздавил окурок каблуком и пошагал к штабу.
Сталинабад, лето 1941
Когда в столице советского Таджикистана открыли Особое конструкторское бюро НКВД, посвящённые удивлялись: почему там? Понятно, зачем шарашки в Ленинграде, Москве или даже Перми: рядом гигантские заводы, гордость социалистической индустрии, судостроительные, авиационные, артиллерийские; есть, куда врагам народа приложить конструкторскую мысль, чем искупить вину перед советской властью. А Сталинабад, хоть и столица республики, но дыра дырой, населения и ста тысяч не наберётся, из всего производства – швейная фабрика да авторемонтный завод.
И переменный контингент тоже странный: ни инженеров, ни изобретателей, сплошь малополезные для оборонного строительства филологи, историки, поэты и прочие трепачи.
Однако Сталинабадское ОКБ было в особом статусе, возглавлял его целый майор госбезопасности, считай, генерал по-армейски, а еженедельные отчёты о работе СталОКБ ложились в Кремле на такие столы, что волосы дыбом; на некоторые из этих бумаг и пепел из той самой трубки просыпался.
Зэка Аждахов Рамиль Фарухович числился в привилегированных: комната на двоих с дивизионным комиссаром, разжалованным за трусость и потерю боевого управления в боях под финской Сортавалой. Комиссар держался молодцом, бодрости духа не терял, особенно после того, как прочитал в газете «Правда» о том, что приговорён к расстрелу и приговор приведён в исполнение перед строем.
– Вот тебе, Рамиль, и наглядное свидетельство того, что бессмертие существует, – говорил комиссар. – По всем документам я мёртвый, а по утрам бреюсь, гляжу в зеркало: жив, курилка! Как думаешь, есть оно, бессмертие?
Таким манером комиссар, потихоньку стучавший в оперчасть, пытался выманить Аждахова на разговор касательно дела, случившегося в Памирских горах год назад. Дело было тёмное: неизвестно откуда взявшиеся басмачи разгромили комплексную научную экспедицию совнаркома Таджикистана, убив и самого Рамиля, но тот будто бы волшебным образом воскрес. При этом якобы исчез гигантский изумруд ценой в три годовых бюджета республики. От всей экспедиции остались только двое: сам Аждахов да ещё один, Горский, никчёмный энтомолог из Ленинградского университета. Энтомолога продержали под следствием восемь месяцев, всё впустую, и отпустили; раньше, при Ежове, его бы, конечно, закатали в лагерь на десять лет просто так, для профилактики, но сейчас времена были марципановые и нежные, сроками не разбрасывались.
От Аждахова тоже ничего толком не добились, на допросах он держался нахально:
– Что вы мне вменяете, гражданин следователь? Что живым остался и шайку басмачей практически в одиночку ликвидировал?
– Не передёргивайте, гражданин Аждахов, выводите рака из-за камня. Лучше признайтесь, куда девали изумруд?
– Какой ещё изумруд? Не было такого.
– А вот уцелевшие бандиты рассказывают…
Следователь зачитывал показания, Рамиль нагло хохотал, хлопая себя по коленкам:
– Ой, не могу, рассмешили, гражданин начальник! Да кого вы слушаете? Они же сплошь тёмный контрреволюционный элемент, нажуются насвая и бредят. Вы дальше почитайте, про упавшего с неба ангела, обернувшегося драконом, да про то, как я с вырезанным сердцем их голыми руками душил. Тысяча и одна ночь, честное слово!
Словом, предъявить Рамилю было нечего, но и отпускать нельзя; в дело вмешалась Москва, распорядилась осудить на пять лет за служебную халатность и определила прямиком в СталОКБ.
Осуждённым общаться на тему своей работы было запрещено строго-настрого, под угрозой расстрельной статьи за разглашение сведений особой важности, но все и так знали: поэты занимаются сочинением особой силы лозунгов и песен, которые должны, воздействовав на подсознание народных масс, направить их на героические трудовые и боевые свершения, настоящим прорывом стал призыв «Комсомолец – на телетанк!»; особо ценились носители иностранных языков, в первую голову французского и английского, но те трудились, как раз наоборот, над мадригалами, напрочь отбивающими способность к сопротивлению. Отдельная группа этнографов и восточных филологов занималась изучением материалов, доставшихся от Николая Рериха, но с теми всё понятно: Шамбала, гималайская цитадель древних знаний. Художник, по дури вернувшийся в Советский Союз вслед за Максимом Горьким, и посаженный за моральное разложение и антисоветские рисуночки, разрабатывал новый шрифт для японских иероглифов; дело у него шло бодро, картинки были успешно испытаны во время боёв на Халхин-Голе, за что перспективный комкор по фамилии Жуков прислал художнику персональную благодарность, подкреплённую ящиком хорошего коньяка. Коньяк, конечно, выпила охрана, но и художнику вышло послабление: раз в месяц – пленэр в горах, разумеется, в сопровождении конвойного.
Чем занимался Аждахов, не знал никто. В курилке зэка трепались о всяком: что, мол, ему как представителю коренной народности, поручено изучать старинные памирские легенды или что Рамиль на самом деле секретный палеонтолог и занимается возрождением динозавров на предмет использования их в качестве тягловой и боевой силы; всё это, конечно, ерунда, пустые фантазии, рождавшиеся от скуки и тоски тюремного, как ни крути, существования.
Дивизионный комиссар как-то поспорил на коробку дефицитных папирос «Грузия» с профессором-антропологом из Москвы, получившим десяточку за фашистского гейдельбергского человека, что непременно узнает, какую задачу решает Рамиль.
– Мы политработники, инженеры человеческих душ, – хорохорился комиссар. – А значит, к любому ключик подобрать можем.
Время шло, а вожделённые папиросы так и оставались в сундучке у московского профессора. Рамиль только потешался над потугами комиссара.
– Так как насчёт бессмертия, Рамиль Фарухович?
Аждахов ухмыльнулся, сказал:
– Простейшее дело, и пропуск имеется.
Комиссар почуял след, вцепился:
– И каков же пропуск? Одним глазком бы взглянуть.
– Так вы его видели, дружище, и даже обладали долгое время. Возможно, и вернёте когда-нибудь.
– Как это? – растерялся комиссар.
– Обыкновенно.
Аждахов неторопливо снял майку, накинул казённое полотенце на голое плечо, взял из тумбочки коробку зубного порошка, щётку и отправился к умывальнику в коридоре; следом бежал комиссар, силясь обогнать и заглянуть в глаза.
– Совершенно не понимаю, что вы имеете в виду.
Рамиль лишь посмеивался, чистил зубы и всем видом показывал: занят, мол, кто же со щёткой во рту разговаривает?
Комиссар не отставал. Стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу.
– Нет, вы определённо обязаны разъяснить, товарищ Аждахов!
Рамиль сплюнул белым, прополоскал рот и принялся неторопливо умываться, фыркая то ли от наслаждения гигиеническим процессом, то ли от нетерпеливости соседа по узилищу. Наконец, закончил, растёрся вафельным полотенцем и пояснил:
– Очень даже просто и логично. Пропуск – это партийный билет члена Всесоюзной партии большевиков. Мы ведь чем заняты, а? Построением коммунизма в масштабах планеты, дело это нелёгкое, но быстрое, совсем скоро над Землёй заполощется красное знамя Всемирной социалистической республики советов, так? Отныне и на все времена. Потому дело наше бессмертное, и любой, имеющий к нему отношение, тоже бессмертен. А, значит, и вы, и я. Временно, конечно, мы с вами из состава партии выведены, но делом-то всё равно занимаемся. Так что поздравляю с бессмертием, дружище, даже если мы с вами не доживём, наши имена навсегда в списке строителей мира всеобщей вечной жизни. Потому что с рабством, нищетой, безграмотностью уже покончили, потом с болезнями, а там недалеко и до старухи с косой. К стенке её, и все дела, ха-ха-ха!
– Да ну вас, – обиделся комиссар.
– Чего так? – прищурился Рамиль. – Неужто не верите?
– В победу коммунизма верю, конечно, – спохватился комиссар. – Но это в онтологическом смысле. А я сейчас про частный случай. Про вас говорят, мол, вы с вырезанным сердцем басмачей крошили.
– Врут.
– А это что? – комиссар ткнул пальцем в грудь Рамиля. – Я всякие шрамы видел, с шестнадцатого года воюю. С такими ранами не выживают.
Рамиль вздохнул:
– Человек – тварь живучая. Я как-то по случаю был в Китае, обучал тамошних товарищей. Так чего только не наблюдал! В Маньчжурии как-то сделали китайские коммунисты засаду на японцев, роту перебили, а японский командир, самурай натуральный, ещё полчаса отбивался, десяток китайцев положил. Его гранатами закидали, а он из-за камня вылезает, кишки по земле волочатся, рука оторвана – и хоть бы что. Остатней рукой меч ухватил, заорал «банзай!» – и кинулся. Его уж на штыки вздёрнули, а он всё трепыхается. А вы говорите – бессмертие.
– Восток – дело тёмное, – кивнул комиссар. – Наши, что Шамбалой занимаются, уж такое про махатм рассказывают – диву даёшься, а веришь. А что такое «Русазия»?
Рамиль вмиг стал серьёзным, схватил комиссара за грудки:
– Стоп, гражданин, пойдёмте-ка в оперчасть, там вы расскажете подробно, где это слово слышали.
Комиссар юлил и изворачивался, но Аждахов был непреклонен: дотащил соседа до поста, где потребовал от конвоира немедленно доставить к оперуполномоченному. Сержант госбезопасности Рамиля выслушал, усмехнулся и сказал:
– Вот и славно, что сами разговор завели. Вчера подписан приказ, гражданин Аждахов: в связи со значимостью разрабатываемой вами темы создана научно-исследовательская группа «Русазия», вы её возглавляете, а гражданин бывший дивизионный комиссар назначен в состав, теперь он ваш подчинённый. Так что быстро вводите в курс дела и собирайтесь в командировку, отправляетесь сегодня. Успеете?
– Нищему собраться – только подпоясаться, – радостно заявил комиссар и подмигнул Рамилю: – Поступаю в ваше полное распоряжение, гражданин Аждахов. Жду разъяснений относительно боевой задачи. Как там, в Полевом Уставе РККА? Где противник, кто соседи, рекогносцировка и далее по списку.
Несколько озадаченный таким поворотом Рамиль крякнул, почесал лоб и проворчал:
– Ишь, резвый, разъясни ему! Дело трудное и даже, как сказали бы в дореволюционные времена, мистическое.
– Ничего, я из пскопских, мы прорвёмся. Я понятливый.
– Поглядим. Гражданин начальник, а куда командировка?
Сержант госбезопасности подмигнул:
– Ваше предложение рассмотрено и утверждено Москвой. Экспедиция Герасимова уже в Самарканде, так что выезжайте. Конвой проинструктирован, вмешиваться в ваши дела не будет. Дано добро на вскрытие могилы Тимура, поздравляю.
– Не рано ли? – пробормотал Рамиль. – Надо бы в августе.
– Решение принято, – развёл руками сержант. – Уж больно начальству понравилась ваша идея поставить силу Востока на службу мировой революции.
Рамиль поморщился:
– Не так меня поняли, дело-то не в революции, а наоборот. Ну да ладно. Разрешите идти, гражданин начальник?
* * *
Железная дорога Сталинабад – Ташкент, июнь 1941
Разместились в отдельном купе. Перепуганный проводник, пожилой узбек, всячески выказывал пиетет, бегал с чайными стаканами и каждые пять минут тихонько стучал в дверь – узнать насчёт желаний опасных пассажиров; особый страх у него вызывали, конечно, не Рамиль и комиссар в цивильных пиджаках, а конвойные, мордатые вологодцы. Наконец Аждахов не выдержал:
– Прекратите к нам ломиться, любезный! Мешаете процессу.
Узбек ойкнул, тихо прикрыл дверь и не появлялся до самого Самарканда.
– Так вот, к нашим баранам, – деловито сказал Рамиль.
Комиссар глазами показал на конвойных, которые уже откинулись на обитую кожей спинку дивана и захрапели.
– Не про них, – рассмеялся Рамиль. – Они, конечно, интеллектом не изуродованы, но под баранами я имел в виду наш неоконченный разговор о проекте «Русазия».
– Я к тому, что дело секретное, надо ли при посторонних?
– Они всё равно ничего не запомнят, а запомнят – повторить не смогут. Их подбирают по особой системе из наименее развитых умственно, а потом усугубляют достоинства специальными методами тренировки, строевой и политической подготовкой, – пояснил Аждахов. – Низовой сотрудник внутренних дел не должен быть способен на самостоятельные выводы и решения, иначе ему в голову может полезть всякая ерунда, например, относительно террора против собственного народа: имеет ли он право стрелять в беременную или в ребёнка, либо такой поступок невозможен с точки зрения общечеловеческой морали? Так вот, подобные не мучаются, стреляют – и всё.
– Не любите органы безопасности, – заметил комиссар.
– Органы как органы, вполне рабочие. Скажем, идёт путник по дороге: разве важно, какие у него ноги и во что обуты? Важно, куда он идёт и зачем. Может, это бродячий дервиш, несущий секретное послание имаму, может, безграмотный дехканин, топающий на базар за новым кетменём. А если геолог на пути к открытию изумрудного месторождения? А вдруг английский шпион, проводящий разведку горных перевалов, через которые в час «Ч» хлынут батальоны гуркхов? Всё сразу меняется, не так ли? Вот и смысл проекта «Русазия» в том, чтобы верно понять цель нашего пути, а в соответствии с этой целью подобрать, так сказать, подходящую обувку.
– С целью, положим, всё ясно, – осторожно сказал комиссар. – Всемирная республика Советов, всепланетный коммунизм.
Рамиль поморщился:
– Дело не в терминологии, она камуфляж, как краска на броне, может быть любого цвета. Для боя в Заполярье танк покроют серыми, чёрными и белыми пятнами, для пустыни покрасят в жёлтый или даже розовый, если дело происходит в Сахаре, танку от этого ни холодно, ни жарко, его цель – уничтожение противника, захват территории. Так и наш могучий танк прёт к своей цели, а какого он цвета, какой лозунг несёт на броне, панславизм или панкоммунизм – дело десятое.
– То есть вы хотите сказать, что всё равно, царская Россия или советская? Ох, не по той статье сидите, уважаемый!
Рамиль снова рассмеялся:
– Верно мыслите, дружище! Статья тоже условность, пшик. Так вот, Русазия – это о Великой Пустоте. Или, если угодно, Великой Степи. Есть ошибочное мнение, что природа не терпит пустоты, стремится её заполнить – ерунда, принципиальная ошибка. Вселенная – это пустота, гигантские пространства, где всякие планеты и звёзды лишь случайность, девиация, миллионные доли промилле, пылинки, загрязняющие умопомрачительную чистоту мироздания. А в условиях нашей Земли идеальная пустота где? Верно, в России. Одна шестая суши, а населения – воробей накакал, гигантские пространства, девственно чистые: тайга, тундра, идеальная ледяная пустошь. Гляньте в окно – что вы наблюдаете?
Комиссар осторожно отодвинул занавеску, будто опасаясь увидеть нечто неожиданное, пожал плечами и ответил:
– Горы.
– Верно, горы. Дикие, незаселённые, природные. А меж ними – пустыни, мёртвый песок, заносящий города, эти перенаселённые, вонючие очаги заразы под названием «человечество». И всё вместе именуется «Азия». Она занимает большую часть страны, она определяет возможность решить проблему планеты раз и навсегда. Если коротко, то именно нам по силам распространить пустыню на всю Землю, больше некому. А сердце Азии – Великая Степь, от Даурии до Венгрии, и восемьдесят процентов её уже включены в наш состав, осталась ерунда. Народная Монголия уже вассал, как и Танну-Тува. А независимой Венгрии, думаю, и пяти лет не отмерено.
– Не понимаю, – растерялся комиссар. – Разве мировой океан не ещё большая пустыня? Там вообще никаких городов.
– Вот и очередной апологет англосаксонской версии, – поморщился Рамиль. – «Правь, Британия, морями».
Комиссар побледнел, заблеял:
– Вы не так меня поняли, Рамиль Фарухович, я к Англии со всей пролетарской ненавистью…
– Ладно, не паникуйте. Обычное заблуждение, причём легко преодолимое. Планета наша как называется, Вода?
– Нет, что вы! Земля.
– Вот и ответ: имя определяет судьбу. Кто владеет сушей, тот и владеет планетой. А Великая Пустошь, Великая Степь и есть ядро, основа, смысл суши. И уже не раз пыталась добиться своего.
– В каком смысле?
– В самом непосредственном.
Рамиль прикрыл глаза и заговорил глухо, словно транслируя гул из невероятных, истинных глубин планеты…
Земля гудит под копытами наших коней. Мы идём: десятки, тысячи, тумены; тьмы, и тьмы, и тьмы.
Тугой лук за спиной, смертоносные стрелы дремлют в колчане, ожидая своего часа, колючий аркан свернулся змеёй у седла – наступит день, и он захлестнётся петлёй вокруг шеи обречённого на вечное рабство.
Вёрсты, тысячи вёрст; грохочет промороженная степь, резонируя с ударами копыт: наш поток неостановим, чёрная лава с рёвом несётся по склону вулкана, неся гибель душным городам. О вы, трусливые, спрятавшиеся за хрупкими стенами! Вы обречены, так покоритесь могучей Степи, или судьба одна: голову долой всем, кто выше тележной чеки.
До горизонта ряды стоящих на коленях со скрученными за спиной руками. Их, обречённых, раздавленных, гораздо больше, чем нас, воинов Степи; но не восстанут, не поднимут меч, потому что сила за нами, и правда за нами, а они – только пыль под копытами, грязь, ничто.
Ветер, порождение пустоты, завывает над пепелищами, раздувает пожары, несёт запах гниющих трупов и горящих городов тем, кто ещё уцелел, несёт предвкушение ужаса: мы идём! До Палестины, до Адриатики, до Индии и Японии.
Там, в пустынном сердце Азии, земля каждый век пучилась, извергала новые орды: гунны, тюрки, кыпчаки, печенеги. Там воссияла тёмная звезда Темуджина, принявшего титул Океан-хана, потому что настоящий океан – это степь, потому что наши волны – до неба, и после нас не жидкое солёное дребезжание, после нас – истинный покой, мёртвое пространство, белые костяки, засыпанные пеплом.
Волна за волной, вал за валом. Не берут вас орды всадников? Вот вам орды серых воинов, несущих Чёрную Смерть, половина Европы в гниющих язвах, заваленные трупами улицы городов.
Спаслись от чумы? Ничего, у нас найдутся новые бойцы, невидимые, маленькие, злые; Восток ударит вирусами, если крысы не справились.
Враг упрям. Враг живуч, как кошки, и плодовит, как кролики. Он вновь заполняет слабыми телами пустоту, отстраивает сожжённые города. Враг сопротивляется, свидетелем тому Каталаунские поля и поле под Пуатье, стены Вены и берега Угры. Но Степь терпелива, у неё впереди вечность; Степь накопит силы и повторит набег. Пусть люди западного Океана не обольщаются: война не закончена.
Мы придём. И сёдла наших коней, броню наших танков и крылья самолётов украсит новая тамга – красная звезда!
* * *
Вагон вздрагивал, словно ошарашенный рассказом; дребезжали от ужаса ложечки в пустых стаканах, и даже конвойные не храпели, а всхлипывали в тревожном сне.
За стеклом тянулся пыльный пейзаж, сонное пустое пространство, но теперь было ясно: это не кома, это отдых уставшего бойца, копящего силы. Комиссар вздрогнул, отвернулся от окна:
– Ну вы нагородили, Рамиль Фарухович, недолго и поверить. Одним словом, гротеск.
– Придётся поверить, дружище, потому что именно так всё и обстоит. И если вы абстрагируетесь от всякой ерунды, от болтовни ангажированных умников и трепотни голодных переписчиков, если сможете подняться над вопросом, то увидите: вся тысячелетняя история – это противостояние Востока и Запада, это вечный поход Степи, которая в конце концов возьмёт своё. Великая Пустота избирает себе разное оружие, пробует и этак, и так: безграмотные бедуины из пустыни, покорившие полмира, Чингисхан, рождённый в нашем Забайкалье, Блистательная Порта, основанная дикими выходцами из туркменских пространств, чумные крысы – всё это звенья одной цепи, солдаты одной армии. Нюансы неважны, отклонения несущественны, орудия Великой Пустоты не осознают своего предназначения – на то они и орудия. Тот же царь Николашка додумался до Жёлтороссии, но в мелочной борьбе за Корею проиграл главное, хотя все предпосылки были: Монголия, Тибет, Кашгар, эта сердцевина Азии, ждали Белого Царя, который поведёт их на Запад, да так и не дождались, тактический успех барона Унгерна, приведшего к власти Богдо-гэгэна, – всего лишь афтершок несостоявшегося грандиозного землетрясения. И нынешний властитель, уничтоживший всю эту демократическую ерунду, тоже не понимает, что он всего лишь инструмент Великой Пустоты, но чувствует хребтом, кишками, всей сутью своей и движется в верном направлении. Двадцать тысяч танков, пятнадцать тысяч самолётов: никогда и нигде в истории человечества не было такой могучей армии, выкованной двадцатилетним напряжением сил огромной страны; наша броня закалена, омыта кровью, потом, слезами миллионов, и оттого нет её прочнее, нет и не было острее нашего клинка. Ещё чуть-чуть – и хлынет поток, исполнит мечту Океан-хана, дойдёт до Атлантики, до Индийского океана, омоет берега Тихого. Мы на пороге великой эпохи, последней битвы, и это бодрит. Если уж служить, так Сатане, если быть винтиком – так в моторе гигантской всесокрушающей машины; если погибнуть, так погибнуть во имя величайшей цели, во славу Пустоты, истинного Океана – Степи. Человечество – лишь разменная монета в битве грандиозных стихий, надо только выбрать верную сторону.
Комиссар молчал остаток дороги, смотрел в окно, шептал аргументы и сам же отметал их. Рамиль дремал, просыпался, видел перед собой хмурую физиономию комиссара, усмехался.
Принять Истину непросто. Но придётся.
* * *
Река Терек, 15 апреля 1395
О Тохтамыш!
Чёрное сердце твоё подобно змеиному, нрав твой изменчив, словно ты не муж и воин, а юная капризная девушка. Степь спокойна и надёжна, ты же подобен поверхности солёной воды, на неё не опереться, не поставить на ней юрту, не отправить пастись резвых коней; непостоянен ты, Тохтамыш, словно обманчивая океанская гладь.
Где свойственная настоящему чингизиду верность клятве, Тохтамыш? Где благодарность?
Когда войско твоё было разбито, когда ты был ранен и бежал, конь был убит под тобой, но верный нукер Великого эмира спас тебя, когда в Бухаре ты валялся на пропитанной кровью соломенной подстилке и Тимур призвал лучших лекарей, чтобы спасти тебя, ты клялся в вечной дружбе, ты пытался поцеловать руку Железного Хромца и называл себя его слугой; так почему ты забыл добро?
Вновь и вновь терпел ты поражения, пытаясь собрать обломки отравленной разбродом Золотой Орды; вновь и вновь приходил к тебе на помощь Тимур, лечил и утешал, давал золото и войско. Когда бунтовщик Мамай был в одном шаге от престола, когда только храбрые дружины бека урусов Иджима спасли тебя на Куликовом поле, ты вновь прибёг к помощи правителя Мавераннахра, укрепился и наконец стал Великим ханом; ты клялся в вечной дружбе и рассыпал слова восхваления Тимуру, словно жемчужины, но белые зёрна жемчуга обратились чёрными бараньими катышками. Что произошло после? Почему?
За что ты сжёг Москву, за верность и покорность?
За что ты вторгся в пределы Чагатайского улуса, пришёл с оружием под стены Бухары? В благодарность за помощь?
Рано обрадовались хранители старины, говоря: «Впервые за сто пятьдесят лет дружны наследники великого Чингисхана; впервые за века разлада Улус Джучи и Улус Чагатая вместе». Нет предела человеческой подлости, глупость человеческая губительней огнедышащих персидских пушек.
Тохтамыш, степной скорпион, пропитанный ядом; подобно ничтожной твари, ты замышляешь гадости, спрятавшись в тени; твой мозг и мозг скорпиона одинакового размера – не больше кунжутного зёрнышка. Скорпион в злобной глупости поражает самого себя отравленным жалом, так и ты, Тохтамыш, сам губишь себя, и такое не останется безнаказанным: щедр Всевышний в безграничной доброте своей, но даже он может потерять терпение, увидев, что список клятвопреступлений и предательств твоих, Тохтамыш, стал длиннее, чем дорога от Гренады до Мекки.
Одна снежинка невесома, ничтожна; но когда накопится снег на склонах Эльбруса, то обрушится яростной лавиной, круша всё на своём пути; так и грехи твои, Тохтамыш, копились по капле и обвалились лавиной на твою голову.
Пришёл весенний месяц джумада семьсот девяносто седьмого года Хиджры, наступил час расплаты.
Непокорный Терек ревёт на камнях, предрекая битву, на противоположных берегах стоят две самых великих армии в человеческой истории: бесчисленные тумены Золотой Орды, приведённые на берег коварной реки ханом Тохтамышем, и стальные фауджи эмира Тимура, каждый под своим знаменем, колчаны и сёдла воинов окрашены в свой цвет: зелёный, жёлтый, фиалковый.
Рыдает Степь: цвет её, лучшие сыны сошлись в жестокой схватке, великие багатуры подняли мечи в братоубийственной войне. Остановитесь, опомнитесь! Улыбнитесь, верните голодную сталь в ножны, сядьте рядом на белой кошме, выпейте дружескую чашу, помиритесь! Нет, не слышат.
С первыми лучами солнца запели муэдзины по обоим берегам Терека, призывая воинов Пророка, мир ему, к мужеству, прося у Всевышнего, да прославится имя Его в веках, помощи и поддержки в грядущем сражении. Тимур поставил в центр латную пехоту, непробиваемый строй в шестнадцать рядов, перед ним – волчьи ямы с заострёнными кольями на дне, огромные щиты-чапары для защиты от стрел; словно крепостная стена, перегородила пехота долину несокрушимой фалангой. Но хитёр Тохтамыш, опытен в схватках; не стал рваться по центру, а бросил в бой правый фланг.
Ревут рога, рокочут барабаны, разгоняя кровь, заставляя сердца биться в сумасшедшем ритме, в такт грому копыт: несутся отборные тысячи, буртасы и башкиры, ногайцы и кыпчаки, лёгконогая кавалерия Золотой Орды; взлетели в небо тучи стрел, закрыли солнце – и обрушились на левое крыло тимурова воинства, на крепкие сотни узбеков, туркменов, каракалпаков и кыргызов.
Обезумевшие кони ржали, бились грудью о грудь; вздымались булавы и рушились на головы врагов; кричала сталь, высекая искры; падали под ноги скакунов всадники, хрипели умирающие, ломались кости, лилась кровь; дрогнуло войско Мавераннахра, подалось назад, прогнулось; сделало крохотный шажок назад, потом ещё десять; и вот уже бежит, ломая строй.
Увидев слабость врага, завыли золотоордынцы, запрокинув головы подобно степным корсакам, заменили запасными опустошённые колчаны и приготовились добить врага; но что это?
Сам Тимур, спасаясь от разгрома, ведёт в бой двадцать семь отборных кошунов; гремят кольчуги, сверкают панцири, тяжёлая конница набирает ход медленно, неотвратимо, как судьба; качаются длинные копья с остриём в локоть; минута, ещё одна – удар!
Словно тонкий железный лист под кузнечным молотом, смялись, разрушились ряды ордынцев; закричали воины Тохтамыша:
– Мы думали, что победили, но сражались со слабейшими, а теперь сильнейшие несут нам смерть!
Уцелевшие развернули коней и бросились спасаться бегством. Воины Тимура, исполняя приказ, спешно покидали сёдла, вставали на колено и посылали вслед бегущим стрелу за стрелой, поражая ордынцев в спину; сотня за сотней, тысяча за тысячей подходили резервы с обеих сторон, кипящий котёл схватки поглощал, сжирал новые жизни; Тохтамыш, спасая битву, ударил левым крылом – и всё началось вновь; пыль подымалась до неба, и казалось, что солнце прикрылось жёлтым платком, не в силах видеть этот ужас…
Тимур, знаток древней игры шатрандж, не спешил швырять в пламя сражения все силы; жертвуя лучниками, он отвоёвывал клетку за клеткой, в нужный момент вводя в бой тяжёлые фигуры-башни и до последнего придерживая ферзя, личную гвардию: отборных нукеров на туркменских жеребцах, покрытых тигровыми шкурами.
Медленно качались весы победы то в одну, то в другую сторону, пока Тимур не ударил по своей чаше стальным кулаком резервов. Корпуса Дженаншах-багатура, мирзы Рустема и Умар-шейха обрушились на уставшего врага и довершили дело; бежали ордынцы, словно перепуганные джейраны от волчьей стаи, а впереди – раздавленный, растерянный Великий Хан.
Тохтамыш взывал к Небу, молил о чуде, но его мольба осталась неуслышанной: Небо равнодушно отвернулось от того, чьи обещания не стоят и собачьей требухи.
Так погибла Золотая Орда, так воцарилась справедливость, так разрушился союз наследников Чингисхана, не успев родиться.
Так проиграла Великая Степь.
* * *
Железная дорога Ленинабад – Ташкент, июнь 1941
– И она проиграла бы при любом исходе битвы, – сказал Рамиль. – Гигантская трагедия случилась пять с половиной веков назад на берегу кавказской реки. Представьте себе, дружище, что произошло бы, если бы Тохтамыш и Тимур помирились, если бы полумиллионная армия степняков, объединившись, пошла туда, куда должна была?
– А куда она должна была пойти? – удивился комиссар.
Рамиль покачал головой:
– Ну как же, дружище, я битых три часа читаю вам лекцию, а вы так ничего и не поняли? На Запад! Конечно, на Запад, куда же ещё? Завершить начатое Чингисханом, а до него – Аттилой, а прежде – неведомым числом безымянных вождей. Исполнить предназначение, сбросить Европу в Атлантический океан, дабы воцарилась истинная Пустота.
Комиссар выглядел растерянным. Поглядел в окно, за которым пыльный однообразный пейзаж наконец сменился хлопковыми полями и жирной зеленью, пробормотал:
– Ваше преклонение перед пустотой похоже на какой-то древний дохристианский культ, честное слово…
– Вы вправду ничего не поняли, дружище. Ну о каком культе вы говорите? Любая религия есть выражение растерянности человеческого разума, отражение его неспособности понять суть мира. А суть состоит в том, что Вселенная стремится к пустоте и покою. Пустота есть не дурацкий божок в красном углу крестьянской хижины, не деревянный идол и даже не природная стихия, беспокойное проявление мировой диспропорции; Пустота и есть Вселенная, и она своё возьмёт рано или поздно, но лучше рано и с нашей помощью, потому что нет высшего предназначения, чем служба мирозданию.
– Ну хорошо. А какая связь между нашим Советским Союзом и этой историей про давно забытую битву?
Рамиль ударил кулаком по столику: подпрыгнули стаканы, всхрапнули, просыпаясь конвойные.
– Нет, вы определённо издеваетесь, дружище! Включите голову, хоть на минуту, это же не сложнее вашего учебника по партийно-политической работе в РККА. Смотрите: откуда родом Великий Эмир Тамерлан?
– Откуда-то из Средней Азии.
– Из Советского Узбекистана он родом, из Шахризабского райцентра. Тохтамыш имеет прямое отношение к социалистическому Татарстану. А описанная выше битва происходила на территории нынешней Чечено-Ингушской автономной республики. Теперь понятно? Степная империя возродилась в двадцатом веке, только сейчас она называется СССР. И цель у проекта «Русазия» одна: довести до конца начатое тысячелетия назад, привести Степь к победе над Океаном. Ясно теперь?
– Теперь ясно, – пробормотал комиссар, отводя взгляд. – Эксклюзивность какая, право слово. Неясно только, что на этот счёт думает Центральный комитет Всесоюзной партии большевиков и как это связано с Мировой революцией.
Рамиль набрал было воздуха для ответа, но в дверь поскреблись, проводник-узбек испуганно заглянул в купе и сказал:
– Подъезжаем, уважаемые! Самарканд, ваша станция.
* * *
Самарканд, 22 июня 1941
– Добро пожаловать в древнюю Согдиану, дружище. Вот она, столица Тамерлана.
Комиссар крутил головой, ошеломлённый валом запахов и звуков; по перрону металась толпа аборигенов в полосатых халатах, с мешками на плечах; проводник купейного приобрёл вид грозного ифрита у ворот сокровищницы и презрительными жестами отправлял соплеменников к другим вагонам, попроще.
Комиссар снял пиджак, повесил на согнутую руку, пожаловался:
– Ну и жарища! Все пятьдесят градусов, пожалуй. Финны практикуют сухую баню, сауна называется, вот там примерно такая же фантасмагория. В Сталинабаде прохладнее было.
– Привыкайте, дружище.
Молодой узбек, почему-то в украинской вышиванке под льняным пиджаком, подскочил, затараторил:
– Товарищ Аждахов, приветствую! Как доехали? А мы уж вас заждались, у Герасимова такие новости, удивитесь! Ну, пойдёмте же скорей, авто ждёт.
Погрузились в открытый «паккард», запылённый, огромный, в пятнах ржавчины на зелёной шкуре. Конвойные примостились на откидных сидениях и вновь задремали. Комиссар ахал, таращась на голубые купола, на улицы, заполненные вперемешку полуторками, мотоциклистами, ишаками и скрипучими арбами; сопровождающий продолжал тараторить, не давая приезжим и слово вставить:
– Такое творится, вы не представляете! Как вашу записку, товарищ Аждахов, прочли в Москве, так завертелось, что ни день – циркуляр телеграфом, а то и лично снисходят, самолётом! Экспедиция товарища Кары-Ниязова уже неделю здесь, поначалу взялись за могилы сыновей Улугбека, потом вскрыли усыпальницы сыновей Тимура. Товарища Герасимова аж трясёт, глаза горят. Охвачен, так сказать, азартом исследователя. И всех подгоняет, то фотоплёнка ему не та, то лебёдку заменить, я уже с ног…
Рамиль внезапно побледнел, схватил брюнета за рукав:
– Подождите, я же просил: без меня ничего не предпринимать.
– …с ног, говорю, сбился. Ох, о чём вы, товарищ Аждахов, тут уж никому не остановить, взялись по-нашему, по-стахановски! Кстати, вам привет передавал Илья Самуилович.
– Какой ещё Илья?
– Горский. Не помните? Странно. Говорил, что ваш соратник по таджикской экспедиции. Он зимой гостил, интереснейший образец памирской фауны демонстрировал, пытался получить помощь, да с палеонтологами у нас беда, не водятся. Так и повёз к себе в Ленинград.
Рамиль ухватил брюнета за грудки и принялся трясти с такой страстью, что проснулась охрана.
– Вы тут наворотили дел, смотрю! Кто пустил Горского, да ещё с этим драконовым ублюдком?! Почему начали работы по вскрытию могил без моего участия? Отвечай, куток боши!
Конвойный очнулся:
– Заключённый, прекратите нарушать. Отпусти, говорю, гражданина, а то сейчас наганом по башке!
– Заткнись, – прошипел так, что конвойный скис.
Рамиль, побелевший как ледник, встал с сидения, навис над перепуганным брюнетом:
– Только не говори, что и до гробницы Тамерлана добрались. Не молчи, скотина! Ну?
Брюнет вжался в сидение, сучил ногами, пытался отползти, да было некуда. Проблеял:
– Так уже. Позавчера ещё.
Рамиль запрокинул голову и завыл, словно ледяной ветер над Памиром; шофёр вздрогнул и нажал на педаль тормоза, качнулись и гулко стукнулись друг о друга головы конвоиров.
Машина стояла на центральной улице Самарканда, к ней уже бежал постовой в белом шлеме, а Рамиль всё выл.
Так, что приседали от ужаса гордые верблюды.
Город, зима
– Тук. Тук. Тук.
Метроном стучит размеренно, успокаивает: всё в порядке, граждане.
Мама сидит за кухонным столом. Принесла шкатулку с тремя богатырями на крышке, достаёт и перебирает украшения: бабушкино жемчужное ожерелье, серёжки с зелёными камушками, золотые кольца. Самодельная лампа «светлячок» светит неровно, огонёк сердито трещит, плюётся искорками, то растёт и весело приплясывает, то почти гаснет. Бабушка сказала: это потому, что фитиль плохой и масло неочищенное, но Толику нравится, он любит смотреть на танец жёлтого язычка под тихий треск.
Электричества нет давно, и воды тоже. В доме холодно, мама не велит раздеваться на ночь, наваливает на Толика сверху всякую ерунду: старые пальто, праздничную скатерть. Толик пыхтит под пыльной грудой, закрывает глаза и мечтает про «Сталинского дракона», который летает над городом и шугает фашистских стервятников, про белый пароход с музыкой, который войдёт в Неву, взломает лёд и увезёт всю семью в дальние страны. И папу тоже.
Папу вернули из ополчения и отправили в эвакуацию с университетской кафедрой, в далёкую страну Урал.
– Это тоже горы, Тополёк. Не Памир, конечно, пониже, но всё-таки. Учись хорошо, слушайся бабушку и маму. Скоро мы победим, и я вернусь, – сказал папа.
Потом повернулся к бабушке, помял кепку в руке, словно стесняясь.
– Мама, вы бы всё-таки…
– Нет. Мы не будем подавать на эвакуацию. Здесь я родилась, здесь мои первые слова, первая сирень, бестужевские курсы, первая маёвка, первый мой жандарм. Это мой Город.
Бабушка сказала так, будто слово «город» пишется с большой буквы.
– Это мой Город, и я не брошу его в трудное время.
Толику кажется, что мама и бабушка сердятся на папу хотя и непонятно, за что.
Папа велел хорошо учиться, а как? Пока ещё шли уроки, чернила замерзали, тетрадок не было. Сначала писали на полях старых газет, а потом и это кончилось. Бабушка сказала:
– Дурью маются, газеты на растопку нужны.
А теперь совсем отменили занятия из-за бомбёжек, только изредка приглашают в школу: то суп дают, то праздники отмечают.
В коридоре цокают коготки вороны Лариски, потом стучит палка: бабушка вышла из своей комнаты. Ей трудно ходить, поэтому палка. Мама кричит в темноту:
– Зачем вы встали, Софья Моисеевна? Давайте помогу.
– Сама справлюсь, – отвечает бабушка. – Подумаешь, ушиб, не перелом же. Помню, в девятнадцатом под Царицыным попали под шрапнель, убило коня, он рухнул – и на ногу мне. Не вылезти, понимаешь. Эскадрон развернулся и назад, а я валяюсь, и казаки лавой! Вот страху натерпелась. Кхе-кхе-кхе.
Бабушка теперь так смеётся, будто кашляет. Толик уже привык. И дышит бабушка тяжело, сипит, будто в груди у неё гармошка. Такая есть у противного соседа с розовой лысиной, Артёма Ивановича, которого бабушка дразнит «женихом». Артём Иванович играть толком не умеет, но у него хоть какая-то музыка выходит, а у бабушки одни хрипы.
– Коня совсем убили? – спрашивает Толик.
– Совсем. Хороший жеребец был, злой. Гнедком звали. Ну да не беда: мне после рыжую кобылу отписали, ласковую, и глаза красивые, как у Любови Орловой. Имя у неё было Ромашка. То есть, разумеется, у кобылы, не у актрисы.
Толик смеётся: весело, когда, лошадь называют цветочным именем. Мама вздрагивает, перестаёт перебирать украшения, гладит Толика по голове:
– Хохотунчик мой!
Глаза у мамы блестят. Толик терпит целых полминуты, потом выворачивается из-под маминой руки, спохватывается:
– Бабушка! Ты вот лежишь, придавленная Гнедком, и белогвардейцы наступают! Как ты спаслась?
– Дедушка твой отличился. Вернулся, помог выбраться. Герой, одним словом. После того случая у нас и… А, неважно, рано тебе ещё, – улыбается бабушка. – Царицын мы тогда сдали Врангелю, отступить пришлось.
– Как же так! – ахает Толик.
– Не хлюзди, ребёнок, – смеётся бабушка. – Потом вернули, и навсегда. Теперь этот город называется Сталинград, понятно?
Толик кивает: уж с таким именем город никогда не сдастся никаким врагам, ни белякам, ни самураям, ни фашистам.
Ворона Лариска стучит клювом по паркету, требуя внимания.
– Ирроды! Горрох?
– Нет гороха, кончился, – вздыхает мама.
Лариска не понимает. Наклоняет голову, внимательно смотрит на маму одним глазом. Повторяет:
– Горрох!
– Вот троцкист недорезанный! Иди отсюда, потерпишь. Что у нас получается, Наталья?
– Сто семьдесят рублей. И вот это. Может, кольца? Жалко ожерелье.
– Это всё побрякушки, чего их жалеть! Но пока справляемся, пусть будет стратегический резерв. Кофе в зёрнах продают без карточек, двадцать шесть рублей всего, до войны и не достать было. Вот два килограмма и возьми.
Толик кривится:
– Да ну, оно горькое!
– Он. Кофе – он, мужского рода. Запомни навсегда, Анатолий, ты же ленинградец, говори грамотно. Значит так, два килограмма кофе и крупы какой-нибудь посмотри. Про хлеб не говорю, и так понятно.
– Говорят, семьсот рублей на толкучке за хлеб, – вздыхает мама.
– Спекулянты чёртовы, к стенке надо. И откуда берутся? Советской власти скоро четверть века, вроде всех перестреляли, нет – лезут на свет, что прусаки.
Бабушка сердится, от этого у неё между бровями образуются две вертикальные чёрточки, словно восклицательные знаки.
– Я тебе, Наталья, запрещаю якшаться со спекулянтами. Не по-нашему это, не по-советски. Ясно?
– Но, Софья Моисеевна…
– Никаких «но»! Не запрягала. Разговор закончен, ша и точка, не обсуждается.
Мама вздыхает. Собирает украшения обратно в шкатулку, хлопает крышкой.
– Завтра с Тойвоненом в школу пойдём, – сообщает Толик. – Сказали, в семнадцать ноль-ноль. Может, суп будут давать.
Мама вздрагивает:
– Не надо вечером никуда идти, сыночек, всякое болтают. Темно на улице.
– Они болтают, а ты не слушай, – вмешивается бабушка. – Отставить панику. Иди, Анатолий. Только сам съедай, не тащи домой, как в прошлый раз.
Толик кивает, но банка под суп у него уже приготовлена. Метроном вдруг просыпается, торопится, словно запыхался.
– Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога!
Бабушка ворчит:
– Вот фашисты чёртовы, припёрлись на ночь глядя…
В бомбоубежище Горские теперь не ходят, а жаль. Толику там нравилось: народу полно, весело. Некоторые девчонки боятся, хныкают – можно подразнить. Если тревога ночью, спать не надо ложиться. Но бабушка сказала, что это всё дурь, бомбоубежище далеко, пока дойдёшь – налёт и кончится.
Сквозь заклеенное бумажными полосками крест-накрест окно Толику видно, как мечутся ослепительные клинки прожекторов; бухают зенитки, алыми кляксами рвут темноту; пулемёты расшивают чёрный бархат сверкающими строчками. Красота!
– Тополёк, иди сюда. Сегодня вместе будем спать, так теплее.
– Вот ещё!
– Давай, давай, не обсуждается, – говорит мама бабушкиным голосом.
Мама засыпает быстро. Стонет во сне, будто у неё что-то болит; Толик жалеет, гладит по волосам.
Не спится. Толик смотрит на командирский циферблат: таинственным зелёным огнём горят стрелки, резво прыгает секундная. Два часа ночи. По оконному стеклу нечаянно мажет луч прожектора, освещая на мгновение родительскую спальню. Вспыхивают фарфоровые фигурки на книжных полках, сверкают пуговицы на мамином пальто.
Банка с драконовым детёнышем сияет, словно фонарь. Маленький ящер смотрит на Толика, приветствует поднятой ладошкой.
* * *
– Мама, ну какой ещё платок, что я, девчонка, что ли?
– Не ворчи, Тополёк. На улице холодно.
Мама снаряжает, как папанинца на льдину: свитер, кофта, поверх шубы – старый пуховый платок крест-накрест, словно Толик стеклянный и может разбиться, как окно от фашистской бомбы. Мама затягивает узел на спине: не дотянуться.
– Ну всё, я пошёл.
– Подожди.
Мама оглядывается на дверь бабушкиной комнаты и торопливо рисует пальцами в воздухе странную фигуру: тычет Толику в лоб, в живот, в правое, потом левое плечо.
– Иди. И возвращайся скорее, чтобы я не волновалась.
– Зачем, мам? – улыбается Толик. – Вот когда стану красноармейцем и пойду в разведку за языком, тогда волнуйся на здоровье, а сейчас в школу же!
В валенках страшно неудобно. Толик шагает по одной ступеньке, боком, держась за перила. Лестница в вонючих ледяных потёках, скользко, бабушка упала и ушибла ногу, теперь с палкой. Толик ворчит, подражая бабушке:
– Вот засранцы, поганое ведро им до улицы не донести, иродам.
Друг живёт этажом ниже. На косяке длинный список жильцов, кому сколько раз звонить, Тойвоненам – четыре, но звонок без электричества не работает. Толик стучит четыре раза. Серёжка будто ждал за дверью, выскакивает сразу, лицо багровое: видать, тоже долго мучали, превращая в капусту. Тётя Груша кричит из коридора:
– И не вздумайте шататься по улицам, сразу домой!
Серёжка протягивает ладошку, здоровается. Бормочет:
– Всю нутренность вынула, одевала полчаса. Ни с кем не говори, никуда не заходи, назад бегом, не то, мол, поймают и съедят. Девочку, мол, из углового дома съели. Глупости какие-то, честное слово. Кто съест-то? Фашистов в город не пустят, зря, что ли, фронт?
– Может, диверсанты? Проникли к нам и гадят, взрывают там, девочек едят. Вот бы поймать! Здоровско, да?
– Да ну, откуда? Патрули же везде, милиция, истребительные батальоны. У нас сосед в таком. И всяко до комендантского часа вернёмся, не то заарестуют.
– Может, и хорошо, если арестуют? С красноармейцами поговорим, расскажут, как там в бою.
Серёжка сдвигает шапку, чешет лоб.
– Да ну, им с арестованными разговоры запрещены, наверное, лучше не пробовать. Ну чего, пошли? Жарко. Маманя заставила свою кофту поддеть, представляешь? В цветочек, жуть. Хорошо, что в классе не раздеваться, не то засмеют.
Толик вспоминает: точно! Поворачивается спиной, просит:
– Развяжи платок, а то позорище.
Серёжка кряхтит: узел затянут крепко. Наконец, справляется; Толик складывает платок, прячет за пазуху.
– Теперь нормально. Пошли.
– Эх, свобода! – кричит Серёжка.
Прыгает по ступенькам, поскальзывается и летит по грязно-жёлтому льду на заднице.
* * *
Во дворе переполох: дворник Ахмед рубит деревья. Сирень уже лежит скелетом на снегу, бессильно разбросав мёртвые ветки.
– Чего это он? – шепчет Толик.
– Так на дрова. Сараи-то ещё на прошлой неделе.
Серёжка правду говорит: сараи разобраны и растащены до щепочки, словно и не было. Толик на разгром смотрел из окна, мама из дома не выпустила.
Ахмед перехватывает топор и идёт к молоденьким деревьям, которые сажали всем двором в субботник полтора года назад. Неимоверно давно, в прошлой жизни, довоенной.
Толик вдруг бросается, хватает дворника за руку:
– Дяденька Ахмед, не трогайте наш тополёк! Мы его с папой вместе, он саженец из университета приносил. Тополёк до неба вырастет, нашим военлётам будет ориентиром.
Дворник вскрикивает, ругается:
– У, шайтан, напугал! Иди отсюда, не мешай.
Толик дёргает за руку, топор вываливается. Хватает топор с земли, отпрыгивает.
– Пожалуйста, дяденька Ахмед!
Дворник держится за сердце, задыхается, серая кожа обтягивает острые скулы, неряшливая пена на синих губах.
– Отдай струмент, щертёнок! Мне товарищ домоуправ щётко сказал: всё рубить, никаких исклющений для топольков.
Толик не выдерживает, слёзы всё-таки текут. Протягивает руку:
– Вот, заберите.
– Дуращок, што ли? Зачем ты мне, пещку тобой топить?
– Часы заберите. Настоящие, командирские. Только не рубите тополёк.
Дворник озадаченно теребит бородёнку:
– Щасы, говоришь. Покажи. Тикают хоть?
До школы идут молча. Серёжка злится, считает, что друг совершил ужасную глупость: обменять командирские часы с фосфорным циферблатом на какую-то дрянь, чахлый кустик! Всё равно до весны не доживёт, не дворник, так другой срубит.
Толик не спорит. Знает: всё сделал верно.
Ленинградский фронт, ноябрь 1941
Морозы ударили раньше обычного, и сразу под минус двадцать. Как только схватились ледяным панцирем болота, а раскисшие под октябрьскими дождями дороги покрыла твёрдая корка, немцы возобновили наступление на Волхов. Остановить их было нечем: линия обороны дивизии разорвалась в лоскуты, батальоны и роты вспыхивали искрами сопротивления, как умирающий ночной костёр, отбивали три атаки, четыре – и отползали на север, окапывались на огородах очередной деревни, чтобы сдать её через день.
От полка осталось четыре сотни активных штыков, подвоза не было, по тридцать патронов на бойца да по ленте на пулемёт; красноармейцы рубили промёрзшую до состояния гранита землю, выковыривали мелкие окопчики, всматривались в темноту до рези в глазах и всё равно проглядели: утром ударили немецкие гаубицы, пикировщики пробились сквозь серую хмарь и принялись утюжить передок. Связь порвало сразу.
На окраине деревни, в последней уцелевшей избе, начштаба хрипел в трубку:
– Седьмой, седьмой, я первый, что там у тебя? Да отвечай, твою мать!
Погнал связистов искать обрыв, пожилой телефонист собирался долго, обстоятельно, проверял катушку, рассовывал по карманам кусачки и обрезки провода, пока начштаба не сорвался в крик:
– Ты мне тут роди ещё! Бегом, чтобы через пять минут связь была!
Пожилой хмуро поглядел на капитана, молча вышел – и не вернулся.
Грохотало на левом фланге, сквозь стелющийся над снежным полем дым видны были чёрные мушки, ползущие сквозь ледяное пространство: то ли вторая рота меняла позицию, то ли уже фрицы.
Немцы, обработав передний край, строго по уставу перенесли огонь в глубину: вздыбились вокруг штаба чёрно-рыжие фонтаны, затряслась земля как в лихорадке; начштаба выскочил, успел забиться в щель за секунду до того, как стопятимиллиметровый угодил в избу, вознося в зенит обломки брёвен, расшвыривая мёрзлые комья. Начштаба накрыло: звенело в ушах, словно гигантский комар силился вонзить хобот, высосать последнюю кровь. Покачиваясь, выбрался из окопчика, с неба огромными хлопьями валил снег; когда пригляделся, понял, что это листки штабной документации. Прямоугольные снежинки крутились, медленно опускаясь на копчёную землю.
Куда-то подевалась шапка, начштаба сел прямо на землю, бил себя по ушам грязными ладонями, пытаясь вернуть слух; напротив стоял человек в разодранном полушубке, разевал рот и зудел, копируя того комара; начштаба вгляделся в разорванное криком лицо, в кубари на петлицах и наконец вспомнил: взводный из второй роты.
– Что ты тут делаешь, лейтенант? – спросил начштаба и замолчал: собственный голос звучал странно, резонируя с черепом.
Повторил:
– Что ты тут делаешь? Ты должен оборону держать на южной окраине.
Лейтенант вновь принялся разевать рот и тыкать рукой в дым; ладонь его была наспех перебинтована и брызгала чёрными каплями, которые разлетались во все стороны. В зудение лейтенанта вклинились какие-то обрывки, отдельные слоги:
– …дир батальона… до двух рот, из леса… тходим…
Начштаба подивился:
– Как тебя комвзвода назначили, если ты по-русски не говоришь? Что ещё за «тходим»?
Доски завалившегося сарая вдруг принялись чудить – вздрагивать и швыряться щепками. Лоб лейтенанта вспыхнул, расцвёл красным; лейтенант взмахнул обеими руками, словно пытаясь взлететь, но не срослось – упал в снег, суча ногами.
Немцы оказались совсем близко. Шли неспешно, вдоль тлеющих остатков забора; они были похожи на колхозников, идущих с поля после тяжкого трудового дня, карабины торчали вразнобой, как обрыдшие сельскохозяйственные орудия.
Начштаба принялся дёргать клапан кобуры, но рука не слушалась, пальцы соскальзывали. Немец оскалился и сказал, перекрывая комара:
– Шау, руссише официр.
Немец распахнул руки, словно собираясь дружески обнять, качнулся и рухнул навзничь; его спутники принялись падать, отползать с улицы; грохотало сзади, начштаба обернулся и увидел густую цепь, сверкающую вспышками.
Человек подошёл, наклонился низко; начштаба смотрел на загорелое восточное лицо, на новенькую необмятую шинель с красной звездой на рукаве.
– Полковой комиссар Аждахов Рамиль Фарухович, вовремя я, – сказал человек и протянул руку, помогая встать. – Назначен к вам. В политотделе дивизии сказали, что тут туго, так я собрал тыловых, писарей да поваров, и сюда.
– Начальник штаба сто сорок седьмого стрелкового капитан Петров, временно исполняю обязанности комполка. Да уж, вовремя. Спасибо, комиссар, выручил.
– Сочтёмся.
Лицо у него было приветливое: ласково прищуренные глаза, белые зубы, открытая улыбка.
Но глаза оставались холодными. Словно пули, отлитые изо льда.
* * *
– Не пополнение, а стадо доходяг. Ты бы глянул, комиссар.
Рамиль усмехнулся:
– Других писателей у меня для вас нет, товарищ Поликарпов.
– Что? – удивился начштаба и убрал ладони от раскалённой буржуйки.
– Ничего. Сиди, грейся.
Накинул добротный бараний тулупчик, которым давно заменил шинель, вышел на мороз.
Строй стоял неровно, словно не разыскать было впалую грудь четвёртого справа; трёхлинейки торчали, как покосившийся деревенский частокол. Серая кожа, обтянутые скулы, пустой взгляд – пополнение из горожан, ленинградское. Натерпелись. Семнадцатилетние сопляки, не ведавшие службы: у кого клапаны ушанки болтаются, как уши добродушного пса, кто прячет замёрзшие кулачки в рукавах драной шинели. В задней шеренге украдкой курил веснушчатый парень, дымок вился над строем.
– Дай добить.
Бережно принял огрызок самокрутки, затянулся. Сказал:
– Я-то с Лиговки, а ты?
– С Кировского завода, – ответил веснушчатый.
– Говорят, у вас там что ни день, то обстрел?
– Ну да. Бьют по заводу, а нам прилетает. В третьей парадной в квартиру угодило, девять жмуриков.
– Значит, тебе и карты в руки, кировский. Ты же к обстрелам теперь привычный, в герои попадёшь.
Веснушчатый улыбнулся одними губами (глаза оставались замёрзшими), сказал:
– Жрать охота. Долго нам ещё на морозе?
– А это сколько велит командование, хоть до морковкина заговенья. Да, пошамать бы неплохо, кишка кишке бьёт по башке. А я в моряки хотел, там хавка, говорят, козырная, а врач сказал: какой тебе флот, дистрофия на пороге. Вот, в пехоту.
Строй вздрогнул, подтянулся: от штаба уверенно шагал высокий, в белом полушубке, сияющих сапогах, лицо нерусское, тёмное, словно в саже.
– Ишь, копчёный какой, – прошептал лиговский.
Комиссар оглядел строй, улыбнулся, набрал воздуха; зазвенел на морозе отлично поставленный голос, пробирало до самых кишок самого дальнего в строю бойца.
– Фашистские гады рвались к Ладоге, чтобы перерезать последнюю артерию, связывающую Ленинград с большой землёй, да не вышло, потому что грудью встали такие же ребята, как вы. Бились на Волхове, дорого отдавали каждую пядь. Так дорого, что немцы выдохлись, кончилась их авантюра, обернулась пшиком! Теперь наша очередь, войска фронта готовятся к наступлению, будем освобождать город Тихвин, снимать оковы фашистской блокады с города Ленина, колыбели трёх революций. Ленинградцы, да и все советские граждане надеются на вас, орлы, ждут вашего подвига!
Веснушчатый переступил замёрзшими ногами, тихо сказал:
– Красиво заливает, что мой наставник в ФЗУ.
Лиговский промолчал: слушал, скептически кривя синие губы.
– Времени у вас мало, через неделю полк вновь пойдёт в бой, закончив переформирование. И пусть вы пока даже не цыплята, а яйца под наседкой… Отставить смех! Пусть пока вы мало что умеете и знаете, главное, что вы ленинградцы, и нет теперь выше звания на земле! Бойцов мы из вас сделаем, не сомневайтесь. А сейчас на обед, полчаса отдыха и на занятия. Старшина, командуйте.
* * *
После обеда стало веселее, веснушчатый стрельнул кусок газетки, высыпал из кисета последние крошки, покурили на двоих. Построились, пошагали на ровную площадку перед амбаром, бывший колхозный ток; там ждали двое – подтянутый капитан, начштаба полка, и давешний комиссар в белом полушубке.
Новобранцы с удивлением смотрели на железную бочку с узкой, в палец, прорезью. Рамиль принял рапорт старшины, начал:
– Товарищи красноармейцы, есть такая поганая штука как танкобоязнь, и болеют ей даже опытные бойцы. Ну ничего, мы сейчас сделаем вам прививку, да такую, что никогда не заболеете. Поймёте, что фашистский танк не так страшен, как его малюют, бороться с ним можно, и вполне успешно. Вот ты. Ты, ты, в веснушках, чего замер?
– А чего я?
– Когда к тебе обращается старший по званию, надо принять стойку «смирно», представиться и ждать приказаний, а не бормотать «чего я?» Я тебе не завуч в школе, родителей вызывать не буду, сам вставлю так, что голова враз перестанет качаться. Ясно, боец? Не «угу», а «так точно». Иди сюда, полезай в бочку.
Веснушчатый несмело подошёл, заглянул внутрь.
– Давай, давай, видишь, пустая, не с говном. Лезь.
Рамиль дождался, когда веснушчатый устроится внутри, поднял тяжёлую крышку, накрыл. Спросил:
– Ну, как? Уютно тебе?
– Да не особо, товарищ полковой комиссар, холодно и темно, – глухо прогудел подопытный. – Не гостиница «Октябрьская».
– Во-от. А хорошо видно?
– Не-а. Вижу только, как лиговский лыбится.
– А меня видишь?
– Откуда? Вы же сбоку стоите.
Рамиль улыбнулся, повернулся к строю:
– Ясно, товарищи бойцы? Не надо думать, что немец в танке на диване сидит и какао попивает, ему там неуютно, видимость никудышная. Чёрта лысого они в своих железных гробах видят! В лоб на танк лезть не надо, а с борта – в самый раз, подползи с гранатой сбоку – он и не заметит. Теперь дальше. Вот вы трое, ко мне. Бейте прикладами по бочке. Да сильнее, чего вы, как по манде ладошкой, вроде обедали. Сильнее, говорю!
Трое новобранцев вошли в раж, лупили от души: бочка гудела, словно колокол на дореволюционный церковный праздник.
– Всё, стоп. Встать в строй.
Рамиль стащил крышку, велел вылезать; веснушчатый выбрался на свет красный, потный, несмотря на мороз, глаза – как у глушёного окуня.
– Как тебе наш концерт, боец?
– А? – спросил подопытный, вытирая слёзы.
Рамиль рассмеялся, подтолкнул веснушчатого к строю.
Сказал:
– Теперь ясно, товарищи красноармейцы? Винтовочной пулей танковую броню не пробьёшь, зато грохот экипажу устроить можно. Увидите вражеский танк – стреляйте, цельтесь по смотровым приборам. Ну и неприятельскую пехоту, разумеется, отсекайте метким огнём, без пехотного сопровождения танк беззащитен, слеп, глух. Подойдёт ближе – гранатами бейте по уязвимым местам, по гусенице или направляющему катку, бутылки с зажигательной смесью бросайте на крышу трансмиссии. Всем ясно? Старшина, продолжайте занятие.
Пока шли, начштаба сказал:
– Всё, конечно, красиво и доходчиво, Рамиль Аждахович, и видно из танка действительно плохо. Только насчёт шумового воздействия не так: никакого грохота от пуль. Наврал ты салагам, зря. Примутся из винтовок палить да ждать, когда оглохшие фрицы сами наружу полезут.
– Вот несложный ты человек, капитан, прямой, как черенок большой сапёрной лопаты БСЛ-110. А правильно выстроенная психология, дружище, горы свернуть может. В бою последнее дело – скрючиться на дне окопа и ждать, когда раздавит. Действовать надо, понимаешь? Лучше заниматься бессмысленным делом, нежели вообще ничем. И, потом, при обстреле из винтовок есть шанс те же смотровые приборы разбить, ослепить танк по-настоящему.
– Хм. Может, ты и прав.
– Я всегда прав, планида моя такая.
– Верная линия партии, комиссар?
– У меня своя линия.
Капитан хмыкнул, но не стал развивать скользкую тему, заговорил о другом:
– Там тебе телефонограмма из политотдела дивизии, перед наступлением приедет в полк какой-то Цветов, журналист. Обеспечить приём и всё такое, как полагается.
– Ого! – воскликнул Рамиль. – Неужто сам Георгий Цветов, поэт, бонвиван и любимец ленинградской богемы?
– Я иногда половины не понимаю из того, что ты говоришь, комиссар, – поёжился начштаба. – Бонвиваны какие-то, слово совершенно дурацкое.
Рамиль рассмеялся, хлопнул начштаба по плечу и пошагал вперёд.
* * *
Политотдельский «виллис» догнал полк на марше уже за Войбокало. Машина, расшвыривая комья коричневого снега, шла вдоль длинной колонны, мимо запыхавшихся, уставших бойцов, запряжек противотанковых сорокапяток и полевых кухонь. Проехала в голову, лихо тормознула. Из «виллиса» выскочил затянутый в рюмочку новенькой портупеей брюнет, вскинул ладонь к старомодной будёновке:
– Старший политрук Цветов, военный корреспондент «Смены».
Рамиль протянул руку:
– Очень рады, Георгий, наблюдать звезду Ленинграда в нашем ординарном полку.
– Не скромничайте, – подмигнул поэт. – Самый что ни на есть героический полк, в другой я бы не поехал.
Обмен любезностями прервался в самом начале, наблюдатель заорал:
– Воздух!
Два «мессера» с жёлтыми носами шли на бреющем, лупя из пулемётов; полковая колонна вздрогнула, рассыпалась, ринулась за обочины; люди прятались в чахлых кустах, будто они могли спасти, падали на снег, прикрывая затылок руками, словно от пули защитят рукавицы…
Рамиль лежал рядом с Цветовым, смотрел на живое лицо с чёрной стрелкой щегольских усиков, вдыхал запах одеколона, настолько нездешний, неуместный, что казалось – это всё снится, не может такого быть. Поэт ни капли не испугался, с интересом смотрел в небо. Повысил голос, чтобы перекрыть рёв моторов:
– «Эмили».
– Что? – удивился Рамиль.
– Модификация «Е», вон обтекатели на крыльях, там двадцатимиллиметровые пушки.
Это хладнокровие, эта внимательность поразили Рамиля: какие там, к чёрту, обтекатели, когда смерть прямо над головой, когда орут раненые и грохочут пулемёты, выбивая фонтанчики то снежные, белые, а то и красные?
Поэт улёгся поудобнее на спину, достал новенький ТТ, передёрнул затвор, прищурился и начал палить; в этом было мало смысла, попасть в стремительные силуэты вероятность нулевая, но всё же это было правильнее, чем лежать лицом в грязном снегу и ждать пули в затылок, будто небесная расстрельная команда вывела тебя для исполнения приговора.
Рамиль поднялся на колено, закричал:
– Огонь по противнику! Ну, чего развалились, как на пляже? Шевели мослами, царица полей!
Красноармейцы принялись переворачиваться, задирать винтовки и палить в зенит. Налёт скоро кончился, бойцы потянулись обратно на дорогу, командиры пересчитывали своих, выгоняя из строя растерявшихся новобранцев.
– Какая рота? Шестая? Ну так и иди к своим, пентюх!
Рамиль поглядел на поэта уважительно, сказал:
– А вы молодцом, Георгий!
– Привычка. Уже третья моя война, плавали – знаем. Обосраться всегда успею.
Рамиль одобрительно хмыкнул и протянул раскрытый портсигар.
* * *
Вечером заняли позиции потеснившейся бригады морской пехоты. В штабном блиндаже тепло, жестяной чайник уютно посапывал на буржуйке. Начштаба принёс котелок спирта, вскрыл тушёнку, комбат-два раздобыл у морячков гитару с голубым бантом, протянул Цветову, тот усмехнулся:
– Всё-таки красивая у флотских жизнь: бантики, ленточки, полоски.
Загоготали, захлопали:
– Просим, просим.
Поэт не стал капризничать, изображая звезду не в голосе. Ловко настроил гитару, погладил струны тонкими пальцами, словно холку любимого коня. Спросил:
– Что будем петь?
Заговорили все сразу:
– Вагонную!
– Нет, про сирень. «Я люблю тебя, Татьяна, не за нежность и порок», эту.
– «Ночи Халхин-Гола», – попросил начштаба. – В нашей девяносто третьей забайкальской стрелковой очень её любили, считали за гимн дивизии.
Рамиль подвёл итог:
– Давайте начнём с вагонного вальса.
И захлопал первым. Когда стихли аплодисменты, поэт прикрыл глаза, начал перебор: словно издалека, нарастая, накатывая, приближался стук вагонных колёс.
Этот поезд идёт на восток,
С моих губ уже стёк
Поцелуй-лепесток,
Ленинград от тумана промок
И теперь он надолго далёк…
Огонь в приоткрытой печной дверце перестал трещать, чтобы не мешать певцу; алые язычки пламени вставали на цыпочки, стараясь не пропустить ни слова, замирали в восхищении.
Не свернуть машинисту с пути,
За разлуку прости,
Поезд должен идти,
Но от грусти сумеет спасти
Перестука ритмичный мотив…
Начштаба прикрыл глаза ладонью: наверное, вспоминал прощание в июне тридцать девятого, торопливый поцелуй и солёный вкус её губ; плохо выбритые, усталые лица командиров разглаживались, светлели.
За вагонным стеклом танцевал
Работяга-Урал,
Величавый Байкал,
Я приеду, Московский вокзал,
Главных слов я ещё не сказал…
Потом были «Ночи Халхин-Гола», подпевали нестройно, невпопад, от души; после – «Сирень», «Марш красной Барселоны» и другие, сплошь знакомые и любимые песни. Наконец поэт отложил гитару:
– Товарищи, давайте прервёмся. Уж больно вкусно пахнет!
Начхоз всполошился, неуклюже пошутил про соловья, которого не кормят баснями, принялся раскладывать гречку с тушёнкой по котелкам, начштаба разлил по кружкам разбавленного; стоя выпили за товарища Сталина, потом за победу, за Ленинград, за подруг и жён, отдельно – за сто сорок седьмой стрелковый. Начштаба быстро захмелел – то ли с устатку, то ли не отошёл ещё от контузии. Помрачнел, сказал тоскливо:
– Уже четвёртое переформирование с начала войны, пятый состав. Я в штаб дивизии целую подводу списков на похоронки сдал, восемь тысяч фамилий! А ведь даже полгода не воюем.
В блиндаже сразу стало неуютно, потянуло сквозняком по земляному полу; комбаты принялись прощаться, у всех появились неотложные дела.
Цветов и Аждахов вышли покурить. Ночь непроглядная, ни звёздочки; словно замещая пустоту, изредка вспыхивали над немецкой стороной осветительные ракеты, медленно опускались, блюя синим мертвецким светом. Поэт заметил:
– Сразу видно опытного вояку, товарищ полковой комиссар.
– Почему же?
– Так старые солдаты ловко огонёк в ладони прячут, чтобы снайпер не засёк. Ещё заключённые подобным образом поступают, от вертухая на вышке берегутся, но это не ваша история.
Рамиль усмехнулся, сменил тему разговора:
– Что сейчас пишете, опять про Татьяну? Ленинградские девушки, имеющие несчастье называться другими именами, сгорают от ревности.
Поэт понизил голос, сказал доверительно:
– Не поверите, влюбился, как мальчишка. Каких у меня только не было, и актрисы, и примы из Кировского, и даже жена одного всенародно обожаемого наркома. А тут взглянуть не на что: студентка, каких тысячи, курносая, упрямая. Фыркает, словно котёнок, ни малейшего пиетета к знаменитому поэту. И всё, пропал. Женюсь, честное слово!
Рамиль подивился, промолчал. Цветов продолжил:
– Не пишу теперь про Татьяну, она запретила. Говорит: словно с нами в постели ещё миллионы, поклонницы твои в спину глядят, пыхтят, сейчас советы начнут давать.
– В чём-то она права, пожалуй. Жизнь поэта всегда нараспашку, как на сцене.
– Вот-вот. А про новое… Задумал я поэму, начал даже, но её никогда не напечатают.
– Вас-то не напечатают? Да вы нарасхват!
Поэт грустно улыбнулся:
– Тема неудачная, идеологически скользкая. В сороковом был я по редакционному заданию в Хороге, городишко такой в таджикском Памире, может, знаете?
– Что-то слышал.
– Так вот, рассказали мне там древнюю легенду про ангела, который очень любил людей, всё делал, чтобы уберечь их от беды, от смерти. Даже против бога взбунтовался, так любил. Только не вышло у него. Он с горя возненавидел человечество, оброс чешуёй, превратился в дракона и стал служить Эхсосоту, «пустоте» по-русски. Тут я не очень понял, старик-памирец по-нашему плохо говорил: то ли такой злой бог, то ли стихия. И сердце этого дракона-ангела окаменело, превратилось в огромный изумруд. Но прежняя любовь к людям продолжает жить в нём одновременно с ненавистью и презрением, и это его мучает, разрывает надвое, да так, что порой непонятно, то ли один этот дракон, то ли их два. Представляете? Вроде бы сказка и сказка, не особо притязательная, не «Тысяча и одна ночь», а зацепила меня, покою не даёт. Но такое, как вы понимаете, не напечатают, мистика, боги, ангелы, драконы – это всё не наше, если уж писать про Азию, так про шайтан-арбу, избавление от баев-кровопийц и радость социалистического труда. Поэтому работаю теперь в стол. Дожил…
Цветов неловко улыбнулся, словно извиняясь за глупую легенду, захватившую певца гигантских строек и боевых подвигов. Сказал:
– Давайте теперь прощаться, вам отдохнуть надо, утром в наступление.
– Зачем же прощаться? Ещё увидимся.
– Кто знает? Война.
* * *
Боеприпасов у дивизионной артиллерии было в обрез, всей артподготовки пятнадцать минут; снаряды туго рвали воздух над головой, били по чёрным костям зимней рощи, швыряя в свинцовое небо обломки, обрывки, комья земли. Начштаба оторвался от бинокля, заорал:
– Ну куда, куда они? Шнурки чёртовы, в божий свет, как в копеечку, окопы немецкие на опушке, а они по лесу.
Авиации не было: погода. Загудела, затряслась земля – подошла танковая рота, пять Т-26; бронированная колонна распалась пятернёй по снежному полю, поползла.
Взводные выбирались на бруствер, выковыривали наганы, хрипели:
– Пошли, пошли, родимые!
Пехота карабкалась из мёрзлых траншей, ухала в снег по колено, шла, качая длинными штыками, словно грозя пальчиком «вот вам сейчас!»
Немецкие окопы ожили, расцветились вспышками, застрекотали пулемётами; завизжали мины, ложась густо, разрывая жидкие цепи атакующих, швыряя на снег.
Спустя четверть часа пять танков жирно чадили, словно жертвенные костры, вот только боги жертву не приняли: полк лежал в поле, не в силах поднять головы, так и не дойдя до вражеских траншей.
Начштаба держал трубку на отлёте, оттуда летели мат, молнии и даже, казалось, слюни; прикрыл ладонью, прошептал:
– Орёт, что держим всю дивизию. Если через пятнадцать минут не возьмём первую линию, комбатов под трибунал, меня и комиссара полка, как водится, расстреляют перед строем. А чем я ему прорывать буду, елдой?
Рамиль улыбнулся. Раскрыл портсигар, достал папиросу, постучал мундштуком по крышке, сунул в угол рта, прикуривать не стал. Сказал:
– Не ссы, капитан, разберёмся.
Подтянул голенища щегольских хромачей, пошёл.
Проваливаясь где по колено, а где и по пояс.
Обходя лежащих ничком, переступая через вырванные внутренности, прикрываясь перчаткой от едкого чада горящих танков.
Казалось, все немцы забыли про полк, стреляли только по Рамилю пули, мины вздымали снег, грохот и визг сливались в рваную мелодию торжественного встречного марша.
Пехота поднимала головы, вытирала пот, смотрела изумлённо: Рамиль всё шёл и шёл, неспешно, словно гулял по Невскому, жуя мундштук папиросы. Подошёл, сказал:
– Хватит валяться, бойцы. Дело надо делать.
– Дык пулемёты, товарищ полковой комиссар!
– И что, и пулемёты. Или ты думал, что фрицы тебя патефоном с танцами встретят? Давай, давай, поднимаемся. А, да ну вас!
И пошёл дальше, в сторону немецких окопов.
Пехота зашевелилась, вставая на колени, подтягивая за ремни трёхлинейки, заскрипела затворами, вдавливая обоймы в патронники.
Выстрелы в упор рвали полушубок, выдирали клочки из спины, швыряли Рамиля навзничь, но он вставал, отряхивал колени и шёл. Немцы выли от ужаса, дрожащими пальцами меняли ленты в пулемётах, а он шёл.
А за ним вставал сто сорок седьмой стрелковый, выдыхая:
– Ырра!
31. Маленькие бифштексы с соусом пикан
Город, зима
– Тук. Тук. Тук.
Словно капли из перебитой вены обессиленного города.
Бабушка давно не встаёт. Лежит, натянув одеяло, только нос торчит острым клювом, словно бабушка превратилась в больную птицу.
Мама на работе, взяли в жилконтору, карточка, конечно, не рабочего, а какая служащим положена, да всяко лучше, чем иждивенческая. Толик подогрел оладьи из кофейной гущи, остатки супа развёл кипятком. Смотрит на серый кусочек бабушкиного хлеба, сглатывает слюну. Ставит всё на поднос, идёт.
Лариска со взъерошенными перьями сидит в углу комнаты. Приоткрыла глаз, посмотрела на Толика, ничего не сказала: ни гороха не потребовала, ни иродом не обозвала.
– Я покушать принёс, бабушка.
– Сколько раз тебе говорить, Анатолий: не «покушать», а «поесть». Кушают младенцы и лакеи.
Бабушка ест аккуратно, долго жуёт, отдыхает. Говорит:
– Допивай суп. И хлеб ешь.
– Это же твоё, – удивляется Толик.
– Я не хочу, наелась уже. А ты растёшь, тебе надо.
Толик смотрит на чашку, на кусочек хлеба. Сглатывает слюну, возражает:
– Так неправильно. Это твоё, вот сама и ешь. И мама наругает.
– А мы не скажем маме, – подмигивает бабушка. – Ешь, говорю, старших надо слушаться.
– Если только совсем немножко.
Толик и вправду отщипывает маленький кусочек, потом ещё один. Потом ссыпает крошки в ладошку, проглатывает.
Бабушка хочет что-то сказать, но вдруг начинает кашлять, сильно, будто в её груди бухают взрывы; Толик помогает ей сесть на кровати, гладит по трясущейся спине.
Наконец, приступ кончается, сразу становится тихо, и только радиоточка на кухне равнодушно роняет:
– Тук. Тук. Тук.
Бабушка шепчет:
– Не могу больше, всю душу выел этот метроном. Словно гвозди в крышку гроба заколачивают. Неторопливо так, размеренно. Наверняка.
Толик удивляется этим словам, но ещё больше поражается, когда видит мутную слезинку на бледной щеке. Слезинка ползёт медленно, как боец по снежному полю; никогда за все девять лет своей жизни Толик не видел, чтобы бабушка плакала.
Но ничего сказать не успевает – в дверь стучат. Толик идёт в прихожую. Замок в последнее время стал необычайно тугим, пока повернешь – запыхаешься. Потом Толик вспоминает, что мама не велела открывать: ходят, мол, по квартирам всякие мазурики, грабят тех, кто уже встать не может. Но уже поздно: дверь распахнута, на пороге стоит Серёжка. Говорит торжественно, подражая радиодиктору:
– После напряжённых боёв войска генералов Федюнинского и Мерецкова прорвали немецкий фронт и девятого декабря сорок первого года освободили город Тихвин! Ура, товарищи!
– Урра! – подхватывает Толик.
Древний монгольский боевой клич мечется по парадной, летит над загаженной лестницей, ударяется в запертые двери и заклеенные крест-накрест окна.
– Теперь всё, конец блокаде, – говорит Серёжка. – Мне папа на карте показал, там совсем чуть-чуть осталось до прорыва. Говорят, с понедельника нормы поднимут вдвое.
– Здоровско! – радуется Толик.
И вдруг вспоминает про бабушку: одна там, плачет, ничего не знает про освобождение Тихвина. Торопливо прощается с Серёжкой, бежит в комнату.
– Бабушка, наши Тихвин освободили! Всё, кончилась блокада! Бабушка, ну чего ты молчишь?
Софья Моисеевна, член партии большевиков с девятьсот пятого года, узница царской каторги, «красная фурия» Петроградской кавалерийской дивизии, кавалер ордена Боевого Красного Знамени лежит недвижно, глядя в потолок.
Лариска вдруг кричит не по-вороньи, по-человечески:
– Куда ты, Сонечка? Вернись.
* * *
Мама не велела рассказывать про смерть бабушки никому, даже Серёжке. Потому что бабушкину карточку сразу заберут.
Раньше бы Толик возмутился: октябрёнок не должен врать. Но теперь всё равно. Только страшно, если кто спросит – Толик себя выдаст, скажет правду.
Почтальонша тётя Люба стоит у парадной, отдыхает, тяжёлую сумку поставила прямо в грязный снег. Спрашивает:
– Ты Горский? Из восьмой квартиры?
Толик замирает: наверняка бабушке письмо или телеграмма, ей до войны часто приходила почта, писали боевые соратники, вспоминали былое, а потом просили помочь с санаторием для старых большевиков или с поступлением бестолковой невестки в зоотехникум, бабушка всем отвечала, бывало, что и помогала; ежегодно приходили письма в красивых белых конвертах со штампом «Петроградский районный комитет ВКП(б)», в них поздравления к октябрьскому празднику, торжественный машинописный текст на плотной бумаге, и внизу фальшивая фиолетовая подпись, «факсимиле». Если почтальонша спросит, жива ли бабушка, Толик соврать не сможет.
– Тебя спрашиваю, мальчик. Из восьмой?
Толик сглатывает: челюсть вдруг свело, язык словно примёрз к зубам. Кивает.
– Высоко к вам, четвёртый этаж. А у меня ноги распухли, боюсь, не дойду. Сам заберёшь письмо, ладно? Только взрослым передай, не потеряй.
Тётя Люба медленно уходит, волоча сумку; Толик смотрит на конверт, узнаёт строгие папины буквы, радуется, даже не замечает, как взбегает по первому лестничному пролёту, но быстро выбивается из сил, дальше поднимается медленно.
– Кто там?
Мама теперь боится кого-нибудь пускать домой, и Серёжку приглашать запретила, потому что теперь в квартире номер восемь есть тайна. Тайна жуткая и стыдная.
– Мама, это я, открывай скорее, от папы письмо, с Урала.
Лариска стучит клювом в дверь бабушкиной комнаты:
– Тук. Тук. Тук.
Стучит слабо, устаёт, отдыхает и снова принимается. Дверь бабушкиной комнаты мама забила гвоздями, но Лариска всё равно хочет попасть внутрь и объяснений про тайну не понимает.
Мама неторопливо надрывает конверт, опирается плечом о стенку, читает; Толик пытается понять по её лицу, что там в письме, и не может: мама теперь совсем не улыбается и не плачет, лицо у неё всё время одинаковое, серое, словно покрытое пылью.
– Ну как? – не выдерживает Толик.
– Нормально, – равнодушно говорит мама. – При Свердловском университете, сейчас привезённые экспонаты разбирает. Вот, тебе написал. Передаёт привет, говорит, чтобы учился, слушался бабушку и хорошо кушал. Где это? Вот: «Ешь всё, что дают, Тополёк, не капризничай, как у тебя, старик, принято». Понял?
Толик молчит. Мама вдруг начинает хохотать.
– Ха-ха-ха. Всё, что дают! Ешь, сынок, не капризничай, котлетки пожарские, ма-а-аленькие бифштексы с соусом пикан, крем-суп бешамель, ха-ха-ха! Ящички он перебирает с древними раковинами, заработался!
Толик затыкает уши, бежит в комнату. На буржуйке кипит кастрюля со столярным клеем, банку которого Толик нашёл в шкафу, когда вытаскивал на растопку папины научные журналы. С помощью клея они с Серёжкой когда-то, неимоверно давно, делали модель «Сталинского Дракона». Лопаются серые пузыри, распространяя запах варёных костей, аромат чудесный, почти мясной. Из клея мама сделает холодец.
– Ха-ха-ха! – хохочет мама из коридора.
– Тук. Тук. Тук, – поддакивает метроном.
* * *
Ночью приходит бабушка. Идёт наощупь, вытянув трясущиеся руки, вместо глаз у неё – чёрные дыры, мутные слёзы дрожат на пятнистых щеках. От неё пахнет варёным костяным клеем и чуть-чуть подгнившим мясом. На плече сидит ворона Лариска, держит в клюве серый бумажный прямоугольник.
– Где ты, Анатолий? Отзовись.
Толик хочет закричать, позвать папу и маму, но не может: изо рта вместо крика вылетает пыль. Папа и мама далеко, в Свердловске, разбирают ящики с окаменевшими раковинами, выковыривают специальными вилочками содержимое, едят, жмурясь от удовольствия. Им не до Толика.
Бабушка вцепляется в Толика скрюченными пальцами, сделанными из ржавых гвоздей, хохочет:
– Вот ты где, шюцкоровец! Хочешь кушать, Анатолий? Всегда говори «кушать», так правильно. Кушай, Анатолий, не капризничай.
Бабушка отбирает у Лариски серый прямоугольник, пихает Толику в рот:
– Вот тебе мои продуктовые карточки, кушай. Жри, говорю!
Рот набивается безвкусной бумагой, Толик жуёт, слёзы текут.
– Жрите мои карточки! Подавитесь.
Толик давится, не может вздохнуть. Вырывается из сна, выламывается, открывает глаза: по потолку скользит синий мертвенный свет, мама тихонько стонет, отвернувшись к стене.
На спинке кровати сидит Лариска. Смотрит одним глазом, не моргая. Говорит:
– Горрох.
– Да какой ещё горох? – шепчет Толик, чтобы не разбудить маму. – Дура ты, ворона!
Лариска качает головой:
– Сам дуррак. Ларриса мудрра. Горрох.
Спрыгивает на пол, идёт к двери, ждёт. Толик вылезает из-под груды одеял, надевает валенки: холодно, буржуйка прогорела, едва подмигивает красными умирающими огоньками. Выпускает Лариску в коридор.
Лариска подходит к бабушкиной двери, смотрит на Толика:
– Горрох.
Толик берёт топор, вставляет в дверную щель. Нажимает, давит всем телом.
– Кррак! – радостно говорит дверь и открывается.
– Карр! – поддакивает Лариска.
Из комнаты веет холодом, но ворона идёт внутрь. Распахивает крылья, несколько раз поднимает, словно вспоминая, как это – летать. Подпрыгивает, шуршит крыльями, взлетает на шкаф. Приглашает:
– Горрох.
Толик вдруг догадывается. Стараясь не смотреть на бабушкину кровать, подставляет табуретку, лезет на шкаф. Просовывает руку в щель, нащупывает кругляши, много, очень много. Лариска годами прятала горошины, накапливала на чёрный день.
Толик смеётся:
– Кормилица ты, Лариска!
– Карр, – соглашается ворона.
Утром мама, получив от Толика полную наволочку горошин, растягивает губы в странной гримасе, словно забыла, как надо улыбаться. Глаза её блестят.
– Ты плачешь, мама?
– Это от счастья, Тополёк. Сегодня бабушку соберём, отвезём на саночках. Поможешь? Не страшно?
– Конечно, мама. Чего бояться-то?
– Брраво! – хвалит Лариска.
Когда замотанную в простыню бабушку стаскивают по лестнице, голова её стучит о ступени.
– Тук. Тук. Тук.
32. Тихвинская наступательная операция 2.0
Город, лето
Я слышал этот звук, я искал его источник. Бродил по раскалённым тротуарам, смотрел в бездумные лица людей, прикрытые козырьками бейсболок. Они спрятались за тёмными очками, они заткнули уши пластиковыми каплями, они не слышат и не хотят слышать, как грохочет над Городом:
– Тук. Тук. Тук.
Песчинки падают, словно авиационные бомбы, и разбиваются о стеклянное дно; время шуршит, истекая, тая, приближая финал, до которого никому нет дела; они играют в игры, строят дурацкие башни из кривых палочек и призрачные империи, они подносят ко рту плоские плитки смартфонов, как кустодиевская купчиха – блюдце с чаем, и хлебают иллюзию, неспособную утолить жажду, потому что мегабайтами не напьёшься.
Я стоял у огромных витрин, за которыми плоские экраны силились отразить трёхмерный мир; одни и те же люди в разных студиях блевали злобой мне в лицо, изображая обиженных на весь мир подростков, которых никто не понимает, не ценит, не хочет уважить; ненависть лилась зловонным потоком, затапливала улицы, шипела на раскалённом асфальте. Сначала я не мог догадаться, зачем эта истерика, пока не вспомнил Рамиля: они опять готовятся, опять штампуют юнитов для своей бесконечной игры.
Скитания по Городу привели меня на Пискарёвский проспект, и только тут я почувствовал облегчение. Я гладил серый камень и слышал шорох моря, пение полумиллиона капель: каждая рассказывала свою историю, простую и страшную в своей простоте. Капли переливались радугой на солнце, выкрикивали свои имена и фамилии, чтобы вечность запомнила: Иванов, Шайдуллин, Рухман, Вильченко; но вечности уже не хватало оперативной памяти.
В какой-то из дней я нашёл себя на скамейке в центре: грохотал пневматический молоток, чернявые рабочие в оранжевых жилетах на голое тело то ли взламывали, то ли клали асфальт, дрожащее марево пахло горячей смолой; чернявые гортанно перекрикивались, белозубо хохотали, но вдруг смолкли, почернели ещё больше: подъехал открытый джип, в котором сидели белокожие парни в камуфляже и смотрели на рабочих так, что никакого огнемёта не надо.
Ненависть плывёт над моим Городом, воняет смолой и серой. Ненависть – наивысшее проявление пустоты.
А потом я всё-таки нашёл его на углу Невского и Малой Садовой, разорванный криком четырёхугольный рот. Он пытался рыдать, читать Ольгу Берггольц или петь из репертуара Георгия Цветова, но выходило только:
– Тук. Тук. Тук.
* * *
Восточный участок Ленинградского фронта, декабрь 1941
Полагалась трёхлинейка, оружие древнее и неуклюжее, но Игорь повозился с кнопками и выудил пистолет-пулемёт Дегтярёва, дело сразу пошло веселее.
Передний край противника дыбился чёрно-оранжевой стеной разрывов, резво неслись по снежному полю тридцатьчетвёрки, солидно ревели неуязвимые «Климы Ворошиловы», небо гудело эскадрильями штурмовиков с красными звёздами; после такой прелюдии в немецких окопах не должно было остаться никого, но у игры своя логика; когда подошли густые цепи румяных бойцов в полушубках и валенках, вражеская линия обороны вспыхнула, загремела ответным огнём.
Вечная слава пехоте!
Смерть – ваша работа,
Саван шьют пулемёты,
В вечность – рота за ротой,
Вечная память пехоте…
Строчки «блокадного барда» вставали из-за сгоревшего леса, поднимались в небо – красиво, но отвлекает; Игорь прижался к земле, поскользил, и вовремя: ожил пулемёт, застрочил, захлёбываясь. Игорь перекатился, уходя с линии огня, но зацепило, хэпэ упало до семидесяти, подхилился, использовав рулончик бинта. Встал на колено, дал в упор длиннющую, на половину диска, очередь. Чёрные силуэты вскидывали руки, падали навзничь, звякнул счётчик очков; перепрыгнул через бруствер, побежал вдоль траншеи, наступая на мёртвые спины, бросая гранаты в чёрные глотки землянок.
– Командир, справа!
Игорь скосил глаза и понял, что не успеет: автоматчик возник неожиданно, собираясь дать очередь от бедра.
– Блин.
– Пригнись!
Автоматчика отшвырнуло, задрались в небо ноги – так, что на мгновение мелькнули подошвы сапог с квадратными головками гвоздей – Игорь выдохнул:
– Спасибо, Лизонька!
– Мурр! Всегда пожалуйста, Игорь Анатольевич!
Всё-таки здорово, когда в команде есть снайпер. Спокойный, надёжный, за всеми приглядывающий.
Дело шло споро, с опережением графика; на левом фланге весело матерился Макс, отражающий контратаку карманной установкой залпового огня «Катюша», если судить по звукам; Игорь зачищал траншею, бил в упор – и нарвался.
Из-за поворота ломаного хода сообщения вылез фриц, громадный, злой, растерзанный: тлеющая шинель свисала лохмотьями, как кожа зомби, пустые дыры глаз. Игорь нажал на спусковой крючок, ППД рыгнул остатками пуль и заткнулся, словно испугался цели; Игорь лихорадочно дёргал клапан холщовой сумки с запасным диском, немец всё шёл, неумолимый, как вал океанского цунами – и вонзил штык в грудь, хрустнули рёбра, сердце сжалось в спазме жуткой боли.
Фриц выдернул штык, оскалился; Игорь упал на колени, понимая, что убит, удивляясь тому, что понимает, бессильно пытаясь вдохнуть, но грудь сипела, словно порванная гармошка. Игорь прошептал:
– Ребята, я всё.
Обрушилась тьма.
* * *
Город, лето
Тьма. И запах спирта.
– Сто девяносто на сто десять. Плохо дело.
Кольнуло, по жилам прокатилась тёплая волна, Игорь осторожно вздохнул – получилось, в лёгкие потёк воздух, густой, живительный, неимоверно вкусный.
– Возраст?
– Тридцать пять полных, – сразу ответила Елизавета.
– Хронические заболевания?
– Нет.
– А у родителей?
– Неизвестно, он сирота.
– Чем болел в детстве?
– Только ветрянкой.
– Хм.
Игорь осторожно разлепил глаза. Белый потолок, кожаный диван: офис, родной кабинет. Никаких немцев. Проглотил вязкую слюну, приподнялся, спросил:
– Что со мной, доктор?
– Тихо, тихо, лежите. Похоже на гипертонический криз. Через десять минут ещё раз померяем давление, тогда решим, куда вас.
– Никуда я не поеду, – начал Игорь.
– Не спешите, Игорь Анатольевич, надо будет – поедете, – уверенно сказала Елизавета.
Игорь огляделся: вся фирма здесь. Лохматые аналитики, улыбающийся Макс, позади девочки из бухгалтерии. Елизавета ближе всех, сосредоточенная, спокойная, но в глазах – боль и тревога.
– Раньше бывало такое?
– Какое? – удивился Игорь.
– Два раза за год, – ответила Елизавета. – Последний в марте, сто семьдесят на сто, сбили капотеном.
– Повезло вам с сотрудницей, всё про директора знает. Ну, давайте попробуем.
Манжета толчками начала стягивать руку, Игорь сказал:
– Всё, кино закончилось. По рабочим местам.
– Прекратите разговаривать, мешаете, – сердито бросил врач.
Сотрудники тихо вышли, остались Макс и Елизавета. Игорь смотрел в потолок, сияющий солнечными бликами, слушал звуки города, чувствовал: отпускает.
– Ну вот, другое дело. Отказываетесь от госпитализации?
– Отказываемся, – сказала Елизавета.
– Полежите полчасика, не вставайте. Вот вам таблетка. И обязательно к кардиологу.
– Я его запишу и прослежу. Спасибо, доктор.
Врач ушёл. Макс хмыкнул:
– Ну ты даёшь, начальник! Я уже зашёл, до флага минута оставалась – и тут Елизавета всполошилась, мол, нет командира. Дверь открыла, а ты на полу валяешься. А жаль: я уже «тигра» спалил. Так и не взяли Тихвин.
– Какого ещё «тигра»? – хмуро спросил Игорь. – Откуда у немцев «тигры» в сорок первом?
– Разрабам плевать, сорок первый или сорок третий, лишь бы весело.
– Угу. Ты лучше скажи, Макс, откуда у тебя противотанковая управляемая ракета «Метис», – сказала Елизавета. – Опять репортами завалят. Забанят тебя за читерство, как пить дать.
– Фигня, в первый раз, что ли? Новый акк сделаю. Чего тебя накрыло вдруг, шеф?
Игорь подумал: рассказывать или нет? Рассказал.
– Глюки у тебя, шеф, – хмыкнул Макс. – Фриц-зомби со штыком, ага. Попутал ты, мертвяки в других игрушках. Всё у тебя пасхалки свои: в прошлый заход бессмертный комиссар восточной внешности, в этот – зомбак.
Игорь промолчал: вправду, странные какие-то видения. Может, действительно здоровье пора проверить?
– Ладно, я пошёл, завтра дедлайн по техзаданию «Русазии», – сказал Макс. – Надо же в этой конторе хоть кому-то деньги зарабатывать, не всё гамать.
– Покажи мне сначала.
– А как же! У шефа право первой ночи, так, Елизавета?
– Иди, иди, трудяга, – миролюбиво отшила девушка.
Игорь лежал, смотрел в потолок, Елизавета сидела рядом, гладила по руке. Было хорошо, спокойно. Как в детстве, когда гриппуешь, мечешься в липком поту, очнёшься – а рядом мама сидит на табуретке, не спит.
Жаль, что мамы никогда не было.
* * *
Город, лето
– Не подсовывай, не подпишу. Ты идиот, Макс, какой ещё «военно-спортивный лагерь», в твоём-то возрасте? Я в этом не участвую.
Макс ощетинился, покраснел, заговорил жёстко:
– А тебя никто и не приглашает, ещё нам либерасни не хватало.
Игорь остолбенел. Встряла Елизавета:
– Максик, ты чего? Роллов просроченных покушал? Или теперь исключительно редьку с квасом потребляешь?
– Не твоё дело. Перекладываешь бумажки, вот и перекладывай себе.
– Да ты не только поголубел, но и охренел в атаке, Максик.
Макс вскочил, бросился к Елизавете, остановился в полуметре. Игорь даже на мгновение залюбовался: маленький, узкоплечий Макс в гигантских берцах, будто персонаж мультфильма, и Лиза, расправившая плечи, замораживающая взглядом, словно Снежная королева – полудохлого воробья.
– Брейк, сотрудники. Сели по местам. Сели, говорю! Макс, ты чего, вправду как с иглы сорвался, почему нервы?
– А чего она? – запыхтел Макс. – Пусть извинится.
– За что извиняться, мальчик? – выгнула бровки Елизавета. – За «либерасню»?
– Хватит, сказал. Заткнулись оба. Макс, ну какой ещё отпуск? Да ещё на месяц, ты с ума сошёл? Работы же… – начал Игорь.
Макс скривился:
– Рабо-оты! Что ты называешь работой, консультации для игроделов? Что, мол, не мог товарищ Сталин в пятьдесят шестом приказывать бомбить Будапешт атомной бомбой, потому что умер за три года до того? Самому-то не противно? В кои веки нормальная работа нарисовалась, настоящая, полезная – и ты рубишь мне «Русазию». Надоело всё, достали ваши рожи.
Игорь выдохнул, посчитал до пяти.
– Я «Русазию» тебе не рубил, а отложил. В конце концов, мы не подразделение администрации президента и не у Симоньян подвизаемся…
– Что ты мне втираешь, причём тут Симоньян? Аксель – дядька реальный, не эти трепачи. И дело хочет делать реальное. Чтобы наконец Европа вздрогнула и обосралась, а не эти мультики голимые про суперракеты. Это даже не концепт, это настоящая стратегия. Идея! С большой буквы. Исполнить истинное предназначение Руси, прийти к последнему морю…
– Это не отравление скисшим квасом из грязной братины, шеф, – спокойно сказала Елизавета. – Это гораздо хуже. Нашему Максику промыли мозги, хотя удивительно: как можно промыть то, чего нет?
– Хватит! Заткни свою сучку!
Игорь вскочил, сгрёб Макса, шарахнул о стенку, вцепился в горло:
– Ещё что-то подобное про Лизу, и ты выблюешь собственный ливер, а потом его сожрёшь. Всосал?
Макс извивался, как червяк на крючке, хрипел. Игорь чуть ослабил захват.
– Понял или нет?
Отпустил. Макс рухнул на стул, вытер слёзы, отдышался. Сказал:
– Я давно всё понял. Терпел просто. Не подпишешь за свой счёт – получишь заявление об уходе. Всё.
Покачиваясь, дошёл до двери. Обернулся:
– По старой дружбе, если она всё-таки была. Валите из страны, в Аргентину, в Новую Зеландию, как можно дальше. И не позднее августа. Или никто не спасёт, даже я.
Грохнула дверь, испуганно звякнули стаканы на стеклянном столике.
– Что это с ним? И куда собрался, что за лагерь?
Елизавета вздохнула:
– Это не лагерь, шеф. Макс вчера после того, как вы зарубили техзадание по «Русазии»…
– Не зарубил, а отложил.
– Хорошо, отложил. Так вот, он заперся у себя, надрался в одну харю. И втирал аналитикам в курилке про то, что уезжает на войну. Доигрался в пейнтбол с дружками-нациками.
– Ерунда, где наш Максик и где война?
– И тем не менее, был необычайно серьёзен, не пьяный трёп.
– Ну сама подумай: в ЧВК его никто не возьмёт, он срочную не служил. В Республики? Там сейчас тихо, да и прекратили приём добровольцев.
– Он проболтался, куда. Тут же протрезвел, просил никому не говорить. Аналитики мне под огромным секретом сказали, потому что не могли такое в себе носить, котики.
– Куда?
Елизавета вздохнула.
– В Идамаа.
Игорь охнул. Потёр лоб, сказал:
– Бред. Пьяный бред вечно обиженного тинейджера.
– Не знаю, шеф, может, и бред. Ладно, я пойду.
У двери остановилась:
– И да. Игорь Анатольевич, спасибо, что вступились. Вы мой рыцарь.
Город, зима
Самый худший на свете поэт – Корней Чуковский, а самое жуткое стихотворение – «Путаница». Потому что, когда лисички подожгли море, крокодил принялся тушить его пирогами, блинами и сушёными грибами.
Бабушка не умела печь пироги и маме запрещала:
– Милочка, оставь эту заботу домработнице, а ещё лучше – ленинградскому пищетресту. Прожигать жизнь у плиты – непозволительная глупость, лучше книгу почитай.
Поэтому выпечка дома бывала редко. У домработницы пироги то подгорали, то, наоборот, выходили полусырыми. Зато на углу Кировского и Пионерской пирожки продавала тётя, добрая, румяная, как её товар. Пирожки с капустой были остренькие, а с ливером, наоборот, круглые, пахли они так, что собаки сбегались со всей Петроградки, садились на хвосты и истекали слюной. Толик и Серёжка считали медяки, брали по одному пирожку каждого сорта, делили пополам, чтобы каждому досталось, и съедали.
Блины получались у домработницы не в пример лучше, она пекла их сразу на двух сковородках; лицо её, и так всегда красное, пылало при этом, как зев литейной печи, Толик видел такую, когда класс водили на экскурсию на завод. Блины пеклись нечасто, только по большим праздникам, весь дом наполнялся шкворчаньем сковородок, которые домработница смазывала маслом: брала специальную метёлочку из гусиных перьев и мазала быстро, ловко – словно художник картину пишет. К блинам подавались купленные на рынке сливки, такие густые, что ложка в них стояла, как шпиль Адмиралтейства; в хрустальных розетках сияло разнообразное варенье: рубиновое вишнёвое, коричневое с золотыми зёрнышками клубничное, зелёное крыжовниковое; наполненное с горкой блюдо мгновенно опустошалось, и все ждали, когда же домработница принесёт новую порцию солнечных блинов; Толик особенно любил чуть пригорелые, отламывал тёмные хрустящие пластинки и сосал их, как леденцы.
А вот грибы Толик не любил ни в каком виде, ни жареные, ни солёные, но сейчас бы он согласился даже на сушёные, как в стихотворении Чуковского, проткнутые иглой сморщенные кусочки, висевшие на протянутых вдоль кухни нитках и похожие на дохлых тараканов. Да! Сейчас Толик брал бы их в рот, ждал, когда слюна размочит, и жевал, вдыхая аромат сырой гнили.
И уж точно не стал бы тушить едой море, гори оно синим пламенем!
Очень хотелось есть, даже во сне, особенно во сне; во сне Толик с удовольствием съедал всё, включая манную кашу, состоявшую из одних комочков, целыми тарелками, кастрюлями, чанами. Особенно хотелось сладкого, в последний раз оно досталось на Новый Год, когда в школе давали подарки: по три соевых, облепленных мусором конфеты без фантиков и по два кусочка шоколада. Две конфеты запихал в рот сразу, закрыл глаза, замер, чувствуя, как щёки, нёбо, язык, весь Толик пропитывается, проникается сочащимся наслаждением, течёт патокой; третью съел по дороге, а шоколад принёс маме. Чтобы не потерять, положил в рукавицу, до дома донёс не аккуратные квадратики, а бесформенные комки, но мама всё равно плакала, тихо, без слёз.
– Вот и дождалась. Ты настоящий мужчина, Тополёк, не то, что некоторые.
Толик не понял, кого мама имела в виду, да и неважно: от её слов становилось тепло, щёки и уши горели. Мама продолжала говорить приятное, а сама тихонько подложила на тарелку эти два кусочка, так что случился конфуз: Толик их тоже съел.
Где-то в январе, точного числа Толик не помнил, потому что все дни и ночи слиплись в один бесконечный туман, то серый, то чёрный, загорелась квартира в соседней парадной – там, как и везде, топили буржуйку и не уследили; квартира выгорела дотла вместе с жильцами, они, наверное, даже не проснулись, угорели раньше и не почувствовали боли; в те дни часто горели дома, потому что воды совсем не было: пожарные если и приезжали, то впустую.
Квартира в соседней парадной горела быстро, весело, а потом пошёл чёрный дым; всё это Толик наблюдал в окно, видно было плохо, но во двор не пошёл, хотя многие жильцы собрались внизу, и Серёжка тоже, Толик заметил его среди толпы; люди стояли молча, не выражая ни удивления, ни любопытства – просто постояли и разошлись. Соседние квартиры не загорелись, потому что гореть было нечему: всё давно пошло в буржуйки.
Иногда приходил сосед, Артём Иванович, переставший быть розовым; его лысина, когда-то сияющая, как попка младенца, пожелтела и сморщилась, стала похожей на старый лист бумаги. Сосед каждый раз заводил совершенно дурацкий разговор. Например, про обед, который товарищ Сталин дал британскому послу господину Идену.
– Жрали, небось, досыта, осетров всяких, икру чёрную, и хлеба от пуза, тасазать, сколько хочешь, ситного.
Артём Иванович при этих словах зажмурился, будто увидел эту гору белого хлеба. И вдруг закричал:
– Чего их кормить, дармоедов, а? Союзнички, тасазать. Сами, небось, с жиру лопаются, а мы тут подыхай.
Сосед попытался пройти дальше по коридору, глазки его бегали, словно искали чего-нибудь съедобного, будто это в квартире Горских обретались легендарные горы ситного. Мама встала на его пути, не пуская:
– Идите, идите, Артём Иванович, нечего тут паникёрские слухи распускать.
– Да какая паника, самая что ни на есть правда. Говорят, Жданову мандарины самолётами возят. И врачей кремлёвских, чтобы от ожирения лечить. Сидят там в Смольном, обжираются. Ой, а это что у вас, книги?! Вы с ума сошли? Ими топить надо, зачем вам книги, мне отдайте, я мёрзну всё время, уже и стол порубил, и стулья на дрова, ем на кровати сидючи, как какой-нибудь толстовец, тасазать, в комнате ничего не осталось, одни голые стены.
– Почему толстовец? – поразилась мама.
– Какая разница, все они гады, агенты иностранных разведок. Отдайте книги, а? Говорю, топить нечем.
– Ступайте.
Артём Иванович вдруг закатил глаза, выпустил слюну, завизжал:
– Поделитесь топливом, варвары!
Из бабушкиной комнаты вышла взъерошенная Лариска, подхватила:
– Варрвары!
Артём Иванович обомлел. Протянул скрюченный грязный палец, указывая на Лариску, застонал:
– Отдайте, если сами не хотите, отдайте, пожалуйста, умоляю…
Мама вытолкала Артёма Ивановича на площадку, захлопнула дверь, прислонилась к ней, обессиленная. С площадки глухо доносились стоны:
– Отдайте, фашисты, всё равно сдохнет. Супа, супчика мне, кастрюльку…
Лариска прикрыла глаз плёнкой, качнула клювом. Повторила:
– Кастррюльку.
Мама опустилась на колени, гладила Лариску по голове, приговаривая:
– Не бойся, никому не отдадим и сами не тронем.
Толик вдруг понял, чего хотел Артём Иванович. Он знал, что съели всех голубей и кошек, он бы и сам не отказался даже от крысы, но Лариска! Она же член семьи, товарищ, спасительница! Её горох мама варит до сих пор, по одной горсточке на ковшик, разваривает до бледно-жёлтого бульона, где уже и вкуса нет, один запах. Лариску – в суп?!
Стало страшно.
Мама сказала:
– Ещё раз придёт – не открывай ни в коем случае. Понял?
Толик кивнул.
* * *
Вчера и позавчера хлеба не было, булочная закрыта. Говорят, потому что опять нет воды, тесто не замесить. Люди толпились у дверей, молчали, уходили. Старик в неимоверно грязном пальто с оторванным воротником прислонился к стене, закрыл глаза; меховой воротник болтался на последней нитке, казалось, будто это какой-то зверёк приютился у человека на груди, вцепился, но коготки не держат, зверёк сползает всё ниже и ниже.
Самое трудное – идти домой с пустой авоськой, путь кажется бесконечным, ноги не идут, не верят, хотят повернуть назад. Толик не выдержал, вернулся, вновь прочитал объявление о переносе даты выдачи по карточкам на неопределённый срок. Какое страшное слово! Это гораздо хуже, чем завтра или через месяц. Неопределённый, неизвестный, никогда…
Старик уже не стоял. Лежал у двери булочной, на его лицо падал снег – и не таял.
* * *
Город, лето
– Хот-дог, пожалуйста. С горчицей.
Продавцу жарко, пот стекает по лицу: полуденная улица пылает, а тут ещё раскалённые прутья крутятся под носом, переворачивая с боку на бок булки с сосисками.
– Возьми, красавица. Девяносто. Спасибо, что без сдачи.
Девушка вцепляется белыми зубками, отхватывает кусок, начинает жевать. Вздрагивает: звенит телефон. Копается в сумочке, долго ищет, чертыхаясь.
Я смотрю на неё, на неимоверно длинные ноги, загорелые, гладкие, словно сделанные из полированного тропического дерева. Наконец розовый аппарат выуживается из бездонных недр крохотной сумочки, прижимается к уху.
– Да, зая. Нет, не могу, в шесть фитнес. Да-да, держусь, третий день только на яблоках. Честно-честно!
Я смотрю на её хмурое личико, забрало воина, бьющегося с калориями. Девушка глядит на покалеченную булку, как на пленного врага. Враг приговаривается к расстрелу, хот-дог отправляется в ярко раскрашенную урну. В компанию к объедкам, огрызкам, коркам.
Сытые голуби едва бредут, переваливаясь. Полусумасшедшая бабушка вопит на весь Город «гули-гули-гули» и крошит батон в полкилограмма, четыре суточных порции по карточке иждивенца.
Я помню лицо старика в пальто с оборванным воротником, лицо, на котором уже не тают снежинки. Помню крик соседа, умоляющего о вороньем бульоне. Голод – это наждак, сдирающий всю шелуху, сразу становится ясно, кто под кожей: ангел, чудовище, слизняк.
Или человек.
* * *
Город, зима
Вовка из двадцать седьмой околачивается возле булочной. Продавщица выгоняет, но он, чуть постояв на морозе, снова незаметно просачивается внутрь. Вовка ловкий, хитрый, бабушка называла его «личинкой мазурика», даже водила в отделение милиции, чтобы ему там мозги на место поставили, но без толку. Вовка и со Свищом водился, настоящим вором, и сам крал. Пропадало бельё с верёвок для сушки во дворе, у дворника Ахмеда исчез самовар, огромный, вёдерный… Грешили на Вовку, да за руку не ловили.
Толик ждёт. Продавщица стелет на весы серый лист бумаги, чтобы ни крошки не пропало, вырезает карточки и накалывает на тонкую острую железку, похожую на шпиль Адмиралтейства. Взвешивает хлеб, потом широким ножом отрезает маленький кусочек-довесок, кладёт сверху основной порции.
– Следующий.
Толик забирает хлеб по двум карточкам, своей и маминой, вдруг сзади дёргают за руку:
– Салага, отдай довесочек!
Толик вскрикивает, оборачивается: это Вовка, снова пролез. Вовка хватает маленький, с половину спичечного коробка, кусочек, запихивает в рот и мгновенно проглатывает, не жуя. Толик растерян.
– Опять пришёл, шпана! – кричит продавщица. – Гоните его прочь.
Вовка вдруг выбрасывает грязные растопыренные пальцы, выхватывает хлеб и начинает жрать; Толик кричит, Вовку хватают за локти, он выворачивается, падает на грязный пол, прижав хлеб к груди; его дёргают, бьют, мнут, но Вовка не сдаётся. Когда его наконец переворачивают, хлеба уже нет. Вовка жуёт, слюна стекает на подбородок, к которому прилипли крошки.
– Что же ты, раззява, – говорит Толику продавщица. – Вот тебе мамаша жопу-то надерёт.
Толик не понимает: почему ему? Ведь не он украл и съел чужой хлеб. Приходит милиционер, шинель на нём болтается, на портупее вручную криво проколоты дополнительные дырочки, кобура тяжело хлопает по бедру. Толик говорит:
– Товарищ милиционер, он хлеб мой украл.
– Бывает, – равнодушно говорит милиционер и уводит Вовку в отделение.
Толик встаёт у прилавка, ждёт. Ведь если его хлеб украли, то ему теперь должны дать другой, верно? Так будет справедливо.
– Ну, чего тут торчишь? Отойди от прилавка.
– Тётенька, мне бы хлебушка.
– Ты свой проворонил. Завтра приходи.
Толик не понимает. У него же есть карточки, он не Вовка, не шпана какая-нибудь, всё законно.
– У меня есть карточки, дайте мой хлеб.
Очередь начинает ворчать на бестолкового мальчишку. Продавщица ухмыляется:
– Да ну? Тогда давай карточки за сегодняшнее число, отоварю. Ну, где они?
Толик начинает искать по карманам, но карточки куда-то подевались, не находятся. Человек в очках с треснувшим стеклом вцепляется в ухо железными пальцами, тащит наружу:
– Прекратите мешать сотруднику торговли, молодой человек. Подите прочь.
Толик долго стоит у дверей булочной, смотрит на выходящих с хлебом людей. Потом бредёт домой дальней дорогой, останавливается на каждом углу, выворачивает карманы, щупает подкладку снова и снова – карточек нет. Как ни оттягивает, всё равно в конце концов приходит к своей парадной.
Мама открывает дверь, говорит:
– Что же так долго, Тополёк? Давай быстрее, на работе суп давали, я кипятком развела. Сейчас поужинаем.
Мама уходит в комнату. Толик стоит у дверей, не раздеваясь, переминается с ноги на ногу. Наконец, собирается с духом:
– Мамочка, ты только не ругайся, я не виноват, это всё Вовка из двадцать седьмой. Схватил и жрать. Его милиционер увёл в отделение. Надо туда сходить, чтобы отдали.
Мама выходит в коридор.
– В какое ещё отделение? Ты с ума сошёл, Анатолий? Где хлеб?
Мама начинает дёргать Толика, поворачивать, хлопать по карманам.
– Где хлеб, отвечай?
Лицо у неё злое, чужое, незнакомое. Толик не собирался плакать, но выходит само.
– Мамочка, прости, я нечаянно, я не хотел. И карточки потерялись.
Маму словно подбили под коленки, она падает на табурет. Говорит:
– Если ты шутишь, Анатолий, то не смешно. Сегодня только третье число, весь месяц впереди. Что мы будем есть?
Толик молчит. Мама прячет лицо в ладони, плечи её вздрагивают.
* * *
Мама почти не разговаривает с Толиком.
Сегодня ходила на толкучку, выменяла все украшения на мешочек крупы и фунтик муки. Сделала болтушку, с грохотом поставила тарелку:
– Ешь.
И ушла на службу.
Лариска не ходит по квартире, гордо выпятив грудь, как эскадронный старшина. Сидит в углу, прикрыв глаза, перья торчат – те, что остались.
В дверь стучат. Толик подошёл, но открывать не спешит: наверное, опять сосед Артём Иванович с глупостями.
– Толик, открой, это Тойвонен.
Серёжка запыхался, улыбается. Суёт газетный свёрток.
– Всё, мы эвакуируемся. В грузовике поедем через Ладогу, прямо по льду! Зыко, правда? Вот хлеб, я у мамки стащил, пока свои узлы собирала. И карточки. Тут только папина, остальные не знаю где, она успела спрятать.
Толик смотрит на серый бумажный прямоугольник: рабочая карточка, триста пятьдесят граммов. Вот мама обрадуется! Снова обнимет, скажет: «Тополёк, ты у меня настоящий мужчина!»
Толик спохватывается:
– Тебе же нагорит.
– Не хлюзди, брат, – подмигивает Серёжка. – Там, в эвакуации, хлеба завались, и никакой блокады. Ладно, бывай.
Серёжка протягивает руку, жмёт, сбегает по лестнице. Толик прикрывает дверь, идёт в комнату, разворачивает газету: много, граммов двести. Надо дождаться мамы, устроить пир на весь мир. Толик идёт в бабушкину комнату, берёт праздничную фарфоровую тарелку, кладёт на неё хлеб; серый кус сразу преображается, становится торжественным, красивым, как флотский лейтенант на балу. Толик садится за стол, любуется на тарелку. Только отщипнуть, посмотреть, вдруг неправильный какой?
Толик отламывает кусочек, разглядывает дырочки, мелкие чешуйки отрубей, потом нюхает – до головокружения, слюна сразу наполняет рот. Её так много, что Толик боится захлебнуться, запихивает кусочек в рот, убеждается: хлеб правильный, очень вкусный.
Время еле ползёт, словно тяжёлые санки с ведром чёрной невской воды; стучит метроном, медленно роняя секунды:
– Тук… Тук… Тук…
Толик смотрит на часы: кажется, сломались, не идут. Конечно, это же будильник для гражданских, ненадёжный, не то, что были подаренные папой «Командирские». Толик хватает будильник, подносит к уху. Аппарат испуганно тикает, словно внутри проснулись крохотные человечки, торопливо застучали молоточками, чтобы часы не выкинули. Толик трясёт будильник, ставит на стол, смотрит на минутную стрелку: движется или нет? Когда же мама вернётся с работы?
За окном медленно темнеет. Толик вздыхает, отщипывает кусочек, ещё один. Сметает крошки, относит Лариске.
– Ешь, праздник сегодня.
Вороне плохо, глаза у неё мутные. Она тыкается клювом в ладонь и замирает, будто засыпает.
– Ешь, ты же голодная.
Лариска задирает голову, проглатывает одну крошку и закрывает глаза, больше не хочет, приходится самому доедать. Толик отщипывает ещё кусочек и спохватывается: половина хлеба куда-то делась, словно испарилась. Толик понимает, что так недолго маму оставить без Серёжкиного подарка, отодвигает тарелку подальше. Кладёт голову на руки, зажмуривается; представляет, что кончилась война, и они летят с Тойвоненом на самом быстром в мире многомоторном самолёте, на Урал, за папой. Серёжка – командир воздушного корабля, в левом кресле, пусть его, заслужил; Толик – второй пилот.
– Высота шесть тысяч, курс девяносто пять, – говорит Толик.
Серёжка кивает, чуть доворачивает штурвал и входит в облако, за фонарём кабины белая вата, как на новогодней ёлке; облака вдруг начинают чернеть, набухать грозой, сквозь них пробиваются тревожные жёлтые лучи.
– Прощай, брат. Держи штурвал крепко, соблюдай верный курс, – неожиданно говорит Серёжка, открывает дверь («откуда в кабине пилотов дверь?» – удивляется Толик) и исчезает в черноте.
«Он же без парашюта!» – внезапно вспоминает Толик. Отдаёт штурвал, бросает аппарат в пике; мелькают грязно-серые лохмотья туч, вспыхивают и гаснут разрывы зенитных снарядов, это стреляют фашисты.
– Бух! Бу-бух!
Звучит очень натурально, словно снова артиллерийский обстрел, как в декабре, когда снаряд на Кировском проспекте убил пятнадцать человек. Толик поражается: какие фашисты, если победа, война кончилась? Самолёт с рёвом прорывает облака, выравнивается, под ним бескрайнее ледяное поле, в поле серая колея, по которой ползут чёрные жуки («грузовики» – догадывается Толик). Открытые полуторки идут колонной, набитые закутанными, замёрзшими людьми, в какой-то из них – Серёжка Тойвонен; Толик всматривается, чтобы понять, в какой именно, но чёрные фигуры одинаково неподвижны, безглазы. Вдруг передняя машина проваливается под лёд, водитель успевает выпрыгнуть, потому что его дверка открыта и закреплена проволокой; пассажиры в кузове оцепенели, смотрят на вскипающую за бортами воду с обломками льда – и уходят в глубину. Не спасается никто.
Долго светит из-под воды жёлтый глаз фары, словно прощается. У него вертикальный зрачок.
Толик вздрагивает, просыпается. Детёныш дракона глядит на него сквозь стекло банки, будто хочет что-то сказать.
За окном темно. Толик смотрит на будильник: девять, мама должна была прийти два часа назад.
– Мама! Мамочка!
Толик вскакивает, обегает квартиру, заглядывает даже в бабушкин шкаф. Мамы нет. С трудом открывает замок, выглядывает на площадку: тихо, темно, никого. Торопливо одевается, выскакивает на лестницу, спускается, уже на втором этаже слышит скрип двери наверху, но не до этого – выбегает во двор. Мамы нет.
Идёт на угол дома, смотрит: улица пуста, только какая-то старушка тащит саночки, на которых маленький, в метр, свёрток, словно старушка завернула полено в простыню.
До жилконторы недалеко, идти пять минут, но мама не велит вечером выходить на улицу, будет ругать, испортится всё впечатление от праздника. Толик вздыхает, лезет в карман за ключом от квартиры. Ключа нет. Неужели потерял, как карточки? Что за невезение такое? Жёлтый ключ на верёвочке, большой, заметный; Толик смотрит вниз, опускается на колени, снимает варежки, начинает ворошить обжигающий снег. Потом медленно-медленно идёт домой, осматривает каждую ямку, каждый выдавленный во льду след. Вдруг вспоминает: дверь-то он и не закрывал! Выскочил и сразу побежал за мамой.
– Ф-ф-ух! Вот растяпа!
Толик поднимается по лестнице; надо же, дверь открыта, жёлтое пятно «светлячка» на площадке. Толик удивляется, помнит, что лампу не зажигал, не ставил в коридор, она осталась в комнате на столе. В световом пятне лежит что-то похожее на маленькую подушку. Толик подходит ближе – это том энциклопедии «Брокгауза и Ефрона», на форзаце бабушкин экслибрис: красный кавалерист, на полном скаку трубящий в горн, и буквы «С.М.Г.», Софья Моисеевна Горская. Как книга попала на лестницу, сама выползла?
Толику становится страшно. Он неслышно крадётся, медленно переставляя ноги в валенках. Заглядывает в коридор: посредине стоит табурет, на нём горит «светлячок». На полу белый порошок, похожий на муку, и отпечаток следа. Большого, не похожего на мамин.
– Кто здесь? – шепчет Толик.
Набирает воздуха, спрашивает громко:
– Кто здесь? Вот я сейчас милицию.
Гулкое эхо испуганно мечется под потолком. Толик заглядывает в бабушкину комнату. Дверца гардероба открыта, вещи валяются на полу. Книжный шкаф выпотрошен, полки пусты. Толик замирает: надо бы заглянуть в спальню и кухню, но страшно. Это, наверное, фашистские диверсанты – воспользовались тем, что дверь была открыта, и сделали в квартире Горских тайную базу. Толик нащупывает в кармане винтовочный патрон, подаренный когда-то весёлым механиком-водителем бронеавтомобиля: нет, не то. За дверью, на своём месте, стоит топор; Толик поднимает его двумя руками, крадётся по коридору. Вдруг в нос бьёт резкий запах спирта, нога упирается во что-то. Толик кладёт топор, берёт с табурета «светлячок», поднимает повыше: у стенки стоит огромная банка, та, в которой был заспиртован детёныш ящера, крышка содрана. Толик приседает, смотрит: детёныша нет, синеватая жидкость прозрачна. Ищет пальцами на полу, вдруг натыкается на тёплое, живое.
Толик вскрикивает, отскакивает, роняет лампу; «светлячок» гаснет, в темноте рождается тихий звук:
– Шух-шух. Шух.
Словно во тьме крадётся гигантский паук, потирает лапки, готовясь напрыгнуть, спеленать Толика толстой паутиной, высосать кровь.
– Шух-шух.
Толик нащупывает на полу топор, рубит им тьму, задевает табурет, вздрагивает от грохота. Идёт еле-еле, маленькими шажками, приседает, трогает: вот банка, где-то рядом было живое, страшное. Протягивает пальцы, находит, ахает, отдёргивает.
– Шух, – говорит тьма.
На полочке возле телефона, молчащего с сентября, спички. Толик находит «светлячок», поджигает фитиль, ждёт, когда окрепнет огонёк, возвращается к банке, поднимает фонарь и чуть не роняет вновь: из темноты синим огнём блестит глаз. Моргает, и сразу шорох. Толик выдыхает:
– Лариска! Я чуть не помер от страха. Ты чего тут? Это что на тебе?
Лариска лежит – клюв и ноги туго стянуты бечевкой. Бессильно возит крылом по полу:
– Шух. Шух-шух.
Толик ставит «светлячок» на табурет, поднимает Лариску, принимается распутывать бечёвку:
– Кто же тебя связал?
Сзади скрипит дверь, грохочут шаги. Толик поворачивается, получает жуткий удар по голове, падает.
* * *
Город, лето
Господин Аксель в этот раз прислал не представительский лимузин, а громадный камуфлированный джип такого брутального вида, что мозг невольно домысливал на нём пулеметную башню. Игорь Дьяков не стал капризничать, надел галстук и запонки, которые подобрала Елизавета, даже позволил зачесать и побрызгать волосы духовитым аэрозолем.
– Другое дело, – довольно сказала Елизавета. – Хоть к президенту на приём.
– Добьёте вы меня вашим дресс-кодом, – проворчал Игорь. – Скоро придётся стилиста в штат брать.
Джип смотрелся на улицах Города неуместно, как обвешанный оружием громила в младшей ясельной группе. Игорь с трудом подавил внезапное желание свысока смотреть на легкомысленные разноцветные «пыжики», болтающиеся где-то внизу, под колёсами. Усмехнулся: слово «членовоз» заиграло новыми красками.
Через час стало ясно, почему Аксель прислал джип: машина сошла с трассы и поехала по ухабам разбитой, словно от бомбёжки, дороги. Мотало изрядно, Игорь вцепился в сидение, опасаясь при очередном толчке разбить голову о высокий потолок, проворчал:
– Такое впечатление, что война не кончилась.
Водитель посмотрел в зеркало заднего вида, усмехнулся, сказал странное:
– Так война толком и не начиналась, до того детские игры были.
От этих слов стало не по себе. Игорь молчал, глядя сквозь тонированное стекло на рыжие стволы сосен; через полчаса пытка ямами кончилась, в глухом лесу внезапно обнаружился вполне приличный асфальт, джип заревел турбиной – и вскоре упёрся в настоящий блокпост, словно перенесённый из горячей точки: бетонные блоки, мешки с песком, даже пулемётный ствол в прищуренной амбразуре.
Шлагбаум бесшумно отсалютовал, лесной пейзаж сменился аккуратным газоном и подстриженными кустами; джип остановился у деревянного и в то же время неимоверно помпезного дома. На крыльце стоял Аксель собственной персоной, в чём-то летнем, легкомысленном: светлые штаны спортивного кроя, майка с Дартом Вейдером. Игорь сразу почувствовал себя неуютно в официальном жарком костюме.
– Прошу, прошу, Игорь, э-э, Анатольевич! Добро пожаловать в мою лесную избушку!
– Хороша избушка, квадратов восемьсот.
– Тысяча пятьдесят, не считая флигелей.
В духе обстановки прислуга была обряжена в сарафаны и косоворотки, из блюда с чёрной икрой торчала расписная деревянная ложка. Аксель отломал от каравая кус, щедро навалил антрацитные зёрна на горбушку, вцепился мелкими острыми зубками, зажмурился, заурчал.
– Не скромничай, Игорь, кушай.
Игорь поморщился от этого «кушай», сказал:
– Спасибо, я сыт. Я начну, чтобы не терять времени. Работа проделана большая, но результаты скромные, документы большей частью исчезли, всё-таки почти восемьдесят лет прошло. Особенно плохо с архивами ФСБ, в перестройку там погуляли, конечно.
– Не переживай, самое ценное под шумок жгли отнюдь не юные демократы со взором горящим, – усмехнулся Аксель. – А кое-что надежно спрятано. Очень иногда помогает, японский городовой. Некоторым деятелям бизнеса и культуры полезно помнить, что где-то на квартире глухой бабушки из Подольска лежит фанерный чемоданчик, в котором – подписанные гуру либерализма сексотские отчёты. Но ты неплохо поработал, лучше, наверное, и не сделать, у тебя источники добротные, вроде Савочки.
– Кого?
– Пенсионера КГБ Николая Савченко. Всё так же с портфельчиком ходит?
– Откуда вы…
Аксель наконец прожевал. Посмотрел в упор, не моргая, ощерил мелкие зубки в ухмылке:
– Игорь, я уже говорил: у моей службы безопасности возможностей побольше, чем у некоторых государственных. Тем более что с Савочкой я лично знаком, приходилось пересекаться. Зануда и неудачник, но аккуратист и не без аналитических способностей. Ладно, это к делу не относится. Узнал, когда именно наш фигурант стал таким, э-э, необычным? И главное, почему?
– Смотря что считать необычным.
– Не разочаровывай меня. Или ты лукавишь, Игорёк? Не советую.
Игорю откинулся, сложил руки на груди.
– Семён Семёнович, мне удалось кое-что собрать: свидетельства очевидцев, материалы из открытых и закрытых архивов. Но это такое… Противоречивое очень, а половина, если не больше, вообще глупости, явная выдумка. Бред, честное слово. Якобы Конрад обладает, так скажем, мистическими способностями. Минимум четыре свидетельства о его гибели и последующем воскрешении, из самых разных источников, в том числе, например, от начальника управления «Тевель», человека в высшей степени серьёзного.
– Это ты про Изю Либермана? Верно, в Моссаде других не держат, – кивнул Аксель.
– Участие Конрада в инциденте на чекпойнте «Фокстрот» упоминается в секретном отчёте британского командования в Берлине, причём без выводов и заключений, потому что там такие выводы напрашиваются, что весь штаб надо направлять в Бедлам колонной по четыре.
И вообще, человеку по документам девяносто, а выглядит он от силы на пятьдесят. Такого не может быть. Думаю, вся эта история про Толика Горского, блокадного мальчика – фальшивка для пущего тумана.
Аксель вздохнул. Налил виски в чайную чашку с гжельской росписью, выпил, сказал:
– Почему фальшивка? Был мальчик.
– Мальчик был, – согласился Игорь. – Только к Конраду он никакого отношения не имеет, если рассуждать логически.
Аксель грохнул кулаком по столу:
– Да какая логика, японский городовой! В этой истории логики нет и быть не может. Скажи, Дьяков, зачем я тебя нанял? Думаешь, у меня всех этих архивных бумажек нет? Да побольше, чем у тебя. Так зачем?
Игорь поёжился под холодным взглядом:
– Ну, моя фирма лучшая в отрасли.
– И что? Я же тебя не герб прошу рисовать. Ты гуманитарий, у тебя мозги должны быть заточены вот на это. На нелогичное, странное, нездешнее, понимаешь? Аналитиков у меня своих полно, но здесь не анализ нужен, а чуйка, воображение, умение шагнуть за грань. Сейчас минуту помолчи, подумай, что ты мне хочешь сказать. Такое, чтобы я передумал разрывать контракт.
Игорь открыл папку, положил на стол фотографию:
– Это Афганистан, восемьдесят пятый год. Рядом с Конрадом – ещё один уникум, они вместе фигурируют в нескольких…
– Рамиль Фарухович Аждахов, – сказал Аксель, едва взглянув на фото. – Ты с ним аккуратнее, непонятно, кто на кого работает: он на высшие госструктуры или они на него. Ну-ка, разъясни мне его одной фразой.
– Создатель провалившегося проекта «Русазия».
– Не годится. Во-первых, не создатель, скорее интерпретатор, во-вторых, чего это вдруг «провалившегося»? Ещё одна попытка, Игорь.
– Солдат всех российских войн за последние сто лет.
– Вот! Гораздо лучше. И что же их связывает, Конрада и Рамиля?
Игорь почесал лоб:
– У меня была дикая версия, я её отбросил, но раз вы хотите мистику, а не логику…
– Да! Именно мистику я и хочу, потому что логикой это не берётся.
– Тогда мне надо довести мысль до конца, за сутки управлюсь. Если коротко: странности обоих как-то связаны с погибшей в сороковом году научной экспедицией таджикского совнаркома. В архивах республиканской академии наук невнятно упоминается представленный Ильёй Горским палеонтологический образец, справиться с изучением которого так и не сумели, вернули обратно. Илья увёз образец в Ленинград. А там университет тему открывать отказался, образец не зарегистрирован в описях имущества ни одной из кафедр. То есть куда-то пропал. Куда – неизвестно, зато известно, что его разыскивал Рамиль. И ещё: в ряде случаев Рамиль и Конрад действовали совместно, но выглядело это не как сотрудничество, а как результирующая противоположных сил. Временный союз ангела и демона, если угодно.
– Неплохо. Я как-то об этом… Продолжай, Игорь.
– По Конраду. Это будто три разных человека в разные эпохи, и в тоже время один. Следы первого, девятилетнего Толика Горского, теряются в феврале сорок второго года. Про третьего расскажу позже, сейчас интереснее второй: он появляется, исчезает и вновь появляется. Упоминания отрывочные, но кое-что их объединяет: оторопь, растерянность всех, кто имел отношение к делу. Словно Конрад – не человек.
Аксель не возразил, не согласился. Спросил:
– Как, где и когда Анатолий Горский перестал быть человеком?
– Где и когда – ясно, в блокадном Ленинграде в феврале сорок второго. А вот как…
* * *
Город, зима
– Тук. Тук. Тук.
Кровь грохочет в висках, словно голова превратилась в ротный барабан, в такт – зелёные вспышки в глазах. Толик поднимает веки, перед ним на стене жёлтое пятно, в нём рывками дёргается чёрная тень, её конечности резко двигаются вверх-вниз, словно чудовище играет на бесшумном пианино. Надо повернуться, посмотреть, но Толику страшно.
На губы опускается невесомое, липкое, словно паутина, Толик едва не вскрикивает. Осторожно снимает, смотрит в неверном жёлтом свете: серое перо, кончик его обмазан чёрным. Толик поворачивает, наконец, голову. Морды чудовища не видно, освещены только кисти с кривыми гвоздями-пальцами, они выдёргивают что-то из серого комка и бросают.
– Замаялся уже, – вдруг говорит чудовище. – Хоть целиком в кастрюлю бросай, тьфу.
Голос у него тягучий, неверный, словно пьяный.
Чудовище кладёт комок на пол, берёт любимую бабушкину чашку с синей розой, зачерпывает из открытой банки, глотает. Выдыхает:
– Забористый спирт. Куда только крокодил делся, непонятно. Тилигенты чёртовы, всякой дрянью норовят выпивку для трудящих испортить. Всё испоганили жиды да большевики, давно бы город сдали, а немец порядок наведёт, быстро разберётся, кого, тасазать, к стенке, а кому паёк. Орднунг! Колбаса баварская.
Наклоняется к лежащему на полу Толику, в жёлтом свете возникает лицо: это не чудовище и не фашистский диверсант, это сосед Артём Иванович. Толик шепчет:
– Мама…
Сосед вздрагивает, бормочет:
– Жив, засранец. Ещё с ним возиться. Хоть перья дёргать не надо.
Артём Иванович жутко пьян, движения его неверны и от этого ещё страшнее. Дрожащей рукой сосед хватает Толика за волосы, подтаскивает ближе. Толик вскрикивает:
– Мама!
Артём Иванович затыкает мальчику рот грязной ладонью, бормочет:
– Тише, придурок, тише. Нет этой сучки, всё, отпрыгалась. Осколком ей полбашки снесло. Я в жилконтору как раз за справкой, знатно бахнуло, очухался – вижу: валяется под столом, валенки слетели, и кусок черепушки лежит. Утром придут за тобой, в детдом забирать, а тебя уже и нету, хи-хи-хи!
Толик извивается, кусает Артёма Ивановича за палец. Сосед ойкает, отпускает.
– Врёте! Мама сейчас придёт, будет вам тогда.
– Ах ты ж поганец! Кусается, крыса, сейчас я зубы-то тебе повыбью, тасазать.
Артём Иванович замахивается топором, но ухватить половчее не успевает: лезвие срывается, бьёт наискосок, срезает Топольку щёку.
Толик воет, ползёт по коридору, оставляя широкую кровяную полосу. Артём Иванович рубит и рубит, попадая то по спине Толика, то по ногам, то по паркету. Толик заползает в бабушкину комнату, уставший Артём Иванович выпускает скользкое от крови топорище, говорит:
– Вот живучий, засранец.
Берёт бабушкину чашку с синей розой, черпает из банки, пьёт. Кадык его дёргается. Выдыхает, поднимает топор, вытирает топорище краем выбившейся из штанов рубахи. Идёт по коридору, вдруг останавливается, сипит:
– Чёрт. Отравили всё-таки выпивку, очкарики, дрянь всякая мерещится.
Из бабушкиной комнаты выползает жуткая тварь, поочерёдно переставляя короткие лапы. Длинное чешуйчатое тело извивается, бьёт хвостом о косяк.
Артём Иванович роняет топор, пятится, опрокидывая табуретку, следом банку, пока не упирается спиной в дверь. Бормочет:
– Свят, свят, свят…
У чудовища свисает кожа с одной щеки, зубы жутко светятся белым. Оно идёт медленно, неумолимо, когти стучат по залитому кровью и спиртом паркету.
– Тук. Тук. Тук.
Тварь цепляет хвостом «светлячок», фонарик катится, гаснет.
Тьма.
Дракон
Ленинград, февраль 1942
Сто сорок седьмой стрелковый полк в мёрзлых окопах хлебал варево из сгнившей капусты, менял махорку на хлеб, глотал «наркомовские», считал патроны, замёрзшими пальцами заталкивал обоймы, щупал последнюю гранату на поясе.
Сто сорок седьмой стрелковый лежал под бомбёжкой, поминал Иисуса и его апостолов, иногда – Пророка (мир ему), совсем редко – Будду и никогда – членов Политбюро.
Сто сорок седьмой полз по чёрному снегу, щедро унавоживал горелым мясом поля, что вспашут весной миномёты, развешивал кишки новогодними гирляндами на ветвях мёртвых лесов.
Полк таял, истекал, истончался, пока не кончился весь. Остатки ушли на окраину Города, на переформирование.
Шестое. Не последнее.
* * *
Попрощались на Съездовской линии: начштаба закинул за спину вещмешок, набитый сэкономленным командирским доппайком, и пошагал на запад, по проспекту Пролетарской Победы, к своим девочкам, жене и дочке; Рамиль пошёл на север, обгоняя закутанных по глаза людей. Люди тянули саночки с вёдрами чёрной воды, в которой звёздочками толкались льдинки; люди часто останавливались, стаскивали шарфы, хватали мёрзлый воздух тёмными провалами ртов. Рамиль шагал мимо милосердно засыпанных снегом обугленных развалин, мимо слепых фасадов с зачёркнутыми крест-накрест глазами, мимо сгоревших скелетов трамваев, на Петроградку.
Дом нашёлся быстро. Рамиль не сразу разглядел арку ткнулся в заколоченную парадную. Посреди загаженного двора торчал тополёк-подросток; Рамиль подивился, что деревце до сих пор не срубили на дрова. У стены, опираясь на деревянную лопату, стоял дворник в неимоверно грязном фартуке: вынести лопату у него сил хватило, а махать ей – уже нет. Рамиль поглядел на скуластое, обтянутое лицо с редкой бородёнкой, сказал:
– Исэнмесез, эфэнде!
Старик вздрогнул:
– Щиво тебе, товарищ?
– Не подскажете, в какой квартире живёт Илья Горский?
Дворник посмотрел на петлицы с четырьмя шпалами, спросил:
– Защем тебе Горский? Тукамен снащала покажи.
Долго читал отпускное, шевеля губами. Сказал:
– Ильи Шамильевича нету, в эвакуасии. А так-то вапще Горских нет, конщились. Померли все. А какая женьщина была София Мусаевна! Хорошая женьщина, строгая. Эх!
Дворник отвернулся, побрёл, волоча за собой лопату по неубранному снегу, не реагируя на вопросы про остальных членов семьи и просьбу показать квартиру. Рамиль плюнул, сунулся в один подъезд, другой, нашёл, поднялся по загаженным ступеням. На площадке четвёртого этажа стоял неимоверно тощий милиционер, затянутая до предела портупея перекосилась под тяжестью кобуры. Милиционер пояснил:
– Извините, товарищ полковой комиссар, в восьмую не велено никого пускать, следствие идёт. Тут такое…
Оглянулся, зашептал Рамилю на ухо:
– Потерпевший, Артём Иванович Русанов девятьсот второго года рождения, весь порваный, словно зверь какой когтями драл. Оттого и расследуют, уж больно странное убийство, хотя тут всякое теперь бывает, я уж насмотрелся. Не поверите, товарищ полковой комиссар, на дежурстве намотаюсь, кажется, с ног падаю, а как доберусь до койки – заснуть не могу.
Рамиль принюхался. От милиционера разило сивухой, но тот пояснил:
– Это из квартиры. Там бадья опрокинута, литров на тридцать спирта. И всё в кровище, до потолка.
– Вы квартиру осматривали?
– А как же, вместе с товарищем следователем из горуправления.
– Необычное что-нибудь обнаружили?
– Так всё необычное. Говорю, кровища, потерпевший растерзанный, уж я всяких жмуров видел, маньяка брал в тридцать пятом, так тот маньяк, считай, нежность проявлял по сравнению…
Рамиль нетерпеливо перебил:
– Зверя видели? Похожего на древнего ящера или на крокодила.
Милиционер посмотрел на комиссара: не шутит. Пожал плечами:
– Откуда здесь крокодилы, чай, не зоопарк. Мёртвый вороний труп, ободранный, да, видел.
Рамиль нахмурился, развернулся, пошёл вниз. Спохватился:
– А мальчик? Сын Ильи Горского, у него сын был.
– Вроде был, но в квартире больше никого не обнаружено. Жену-то Горского вчера при обстреле, в голову, насмерть. А мальчика не видел.
Рамиль вышел на улицу, достал портсигар, вытащил папиросу, но прикурить забыл. Стоял, думал. Сзади заскрипела дверь, выскочил милиционер:
– О, вы тут ещё, товарищ полковой комиссар. Забыл сказать: утром на улице обнаружен детский труп мужского пола, голый, в смысле без одежды. Может, искомый мальчонка и есть, наверняка не скажу, без документов был. Мне ещё товарищ лейтенант сказал: мол, странно, что труп раздели, сейчас кому одёжка нужна? Никому. Другое дело, что вырезают, прямо скажем, мягкие части тела…
Рамиль нетерпеливо перебил:
– Где он?
– Товарищ лейтенант? Где положено, в отделении.
Рамиль смял папиросу, подскочил к милиционеру, схватил за грудки, встряхнул; совсем лёгкий милиционер болтался, словно пустой внутри, шапка его упала.
– В жопу твоего лейтенанта! Мальчик, говорю, где?
– Труп-то? Как положено, забрала санитарная команда. Утром ещё, по графику.
– Повезли куда?
– Кто его знает, у них там график, маршрут. Может, на Кировский, а может, прямо на Пискарёвку.
Рамиль плюнул, пошагал прочь. Милиционер поднял шапку, отряхнул о колено, надел. Крикнул вслед:
– До свидания, товарищ полковой комиссар!
* * *
Город, лето
Проходи, заждалась уже, вот тапочки гостевые. А? Ты громче говори, я на это ухо не слышу, вы же знаете, у вас там всё в бумагах прописано. В смысле мокрые? Ах ты, Барсик, паразит, всё-таки надул в тапочки! Я-то думаю, чего он притих? Сейчас я тебе другие дам, почему не надо, надо в тапочках. Ничего, подумаешь, ноги слегка промочил, моча – она даже полезная, я вот по телевизору… А? Говорю, доктор Малышева сказала, что уринотерапия – серьёзная заявка… не помню уже, что за заявка, кому заявка, но так и сказала. На кухню, на кухню проходи, ваши всегда на кухню проходят и спрашивают: чего вам Светлана Андреевна, чем помочь? А? Новенький, что ли? Не признаю тебя. Да ты не смущайся, я, может, забыла, память-то дырявая, склероз, здоровья нету. Здоровье на Лужском рубеже осталось, окопы рыли всем городом, по четырнадцать часов кряду, пока светлое время, а спали в палатках, ночи-то холодные, вот и застудилась. Лежу, кашляю, горю вся, а старший говорит: за дезертирство, говорит, с трудового фронта, спросим, как будто с боевой позиции сбежала. Встала, конечно, пошла копать. Противотанковый ров, знаешь, что за штука? Чего киваешь? Ничего ты не знаешь, молодой. Глубина два метра, ширина пять метров, уклон шестьдесят градусов, берма… Ты хоть знаешь, что такое «берма»? Чего опять киваешь? Откуда вам знать, у вас одно на уме: штаны закатать да на самокате… А? Историк? Ишь ты, неимоверно растёт уровень образования советских, тьфу, российских граждан, уже в собесе на подхвате историки работают. Хотя вот племянница моя, дочка брата, в девяностые, даром что кандидат биологических наук, а полы в гостинице мыла. Племянница, говорю, своих-то у меня не было, вот как застудилась тогда на Лужском рубеже… Ладно, это у вас тоже записано. Доставай, лекарства вчера кончились, у меня же курс. А? Как не из собеса?! А кто ты? Жулик! Не подходи, жулик! Вот как врежу сейчас по кумполу! Ишь ты, обманом проник в помещение. Я не пихаюсь, ты не видел, как я пихаюсь, кишки будешь с полу подбирать. Не на ту напал, гопник, я блокадница, меня не запугаешь… А? Кто звонил, кому звонил? Да, Светлана Андреевна – это я. Какой ещё Игорь Дьяков? Ты и есть Игорь Дьяков? Позавчера? На какой номер? Ну да, пятьсот двадцать два пятнадцать два нуля, правильно, мой домашний. Да нет, со мной ты договаривался, точно, не с кем больше, не Барсик же трубку взял. Я одна живу, вот уже двадцать лет, как мой старик помер, на Смоленском лежит. А детей нет, я же говорю, на Лужском рубеже…
Ладно, не обижайся. Забыла, наверное, со мной часто. Давай, чаем тебя напою. Это что? Визитка. Очки надо, а куда я их… Ладно, верю и так. Раньше, помнится, пионеры, давно это было, ещё при этом, с пятном на лбу. При Горбачёве в последний раз, да, а теперь никаких пионеров, одни буржуины. Так вот, придут эти пионеры, принесут торт, сами же и слопают. Да мне не жалко, ладно. Откуда у вас, спрашивают, Светлана Андреевна, медали «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги»? На каких, спрашивают, фронтах сражались? Сколько фашистов лично пристрелили? Как им сказать, что ни одного? Поначалу сильно переживала, очень хотелось, чтобы своими руками. Рапорта писала. А начальник не отпустил, сказал: кто, если не мы, Светик? Он меня Светиком звал, хороший человек, и без глупостей. Я-то, может, и не против глупостей, хотя вру, куда там, не до любви – выжить бы. Так вот, говорит, Светик, мы тут как хароны ленинградского разлива, перевозим на тот берег, чтобы по-человечески. Знаешь, кто такой Харон? Он как кондуктор у древних греков, по одному и в лодке. А мы эшелонами, по-стахановски, куда там древним грекам. Может, и к лучшему, что ни одного фрица не пристрелила, как думаешь? Я, конечно, не верю во всю эту религиозную чушь, дело не в аду, я, может, этот ад уже прошла, мне теперь любая геенна огненная за санаторий будет. Знаешь, сколько я этих трупов видела? Я ведь в городском санитарном управлении всю блокаду, на Пискарёвке. У нас мужики не выдерживали, спивались или в дурку, а мне шестнадцать лет – и ничего. Ну, то есть, конечно, чего. Сначала тяжко, а потом привыкла. Словно кино смотрю, будто всё на экране, а я в зале, сама по себе. Помогало. После войны догнало уже… Я ведь хохотушка была, плясунья, все мальчишки за мной увивались, да где они, наши мальчишки? Все там, все. Двадцать пятый год рождения. Из нашего класса ни один не вернулся, ни один из четырнадцати пацанов, такие дела.
Помню, пришёл капитан, фронтовик, орденоносец, с полным мешком, а там всякое: и тушёнка, и пшённый концентрат, даже шоколад. Хлеб. Капитана отпустили на сутки, к семье, а квартира выгорела, обстрел, убило его девочек. Он к нам: мол, не видели? Где похоронены? А кто же ему найдёт, когда этих девочек машинами каждый день возят? Капитан чёрный весь, глаза пустые: покажите, где закопали, помянуть должен. Начальник мой, молодец, сообразил: видит, разорвёт сейчас человека, отвёл к свежему рву, ткнул наугад в табличку с номером – тут, мол. Капитана как отпустило, посветлел. Посидел, помянул. Потом мешок нам занёс в сторожку, мы, конечно, отказывались, а он: возьмите, мне всё равно теперь некому отдать. Я маму и брата той тушёнкой месяц кормила, потому и выжили, так что хорошее тоже было.
В сорок третьем полегче стало, да всё равно, ту первую зиму не забудешь. Идёшь, бывало, на службу, снег, снег, и небо мёртвое, ледяное. Словно навсегда зима, не верилось, что бывают другие времена года. Будто приснились весна и лето, платьица, туфельки, улыбочки, словно я про это вычитала в детской сказке. Возили, возили, полуторками. Вот как брёвна, сложат в четыре ряда, друг на друга, а им, сердешным, всё равно уже, в тесноте – не в обиде, всяко лучше, чем на улице валяться. Кто-то сам довозил, на саночках, да таких немного, сил-то нет. Стащат в парадную, да и бросят.
Норма была – двадцать восемь тел в машине, веса в них никакого, одна оболочка, а вот объём… Не распихать, с верхом, через борт перекатится, потеряется, считай, второй раз умер. Помню, в феврале сорок второго, двенадцатого числа. Да. Что сегодня с утра было – не помню, а что восемьдесят лет назад – чётко, по минутам. Доктор Малышева говорила, болезнь такая, от старости, как «демонстрация», но по-другому. Так вот, двенадцатого февраля. Самое тяжёлое время, казалось, но в марте ещё хуже стало. Наши забирали, по графику, да какие нормы – по сорок привозили. Девочку на улице подобрали, внеплановую, ей уже и попочку вырезали, бедной, так она лишняя получилась, не помещалась в кузов – стоймя засунули. Так и ехали через город: она за кабиной, волосы развеваются, чёрные, красивые, аж завидно. Лица её не помню, и хорошо, если ещё и в лица смотреть – прямая дорога на Пряжку, а волосы помню, да. Такие у Татьяны были, возлюбленной ленинградского поэта Жоржа Цветова, ну, ты его не помнишь, конечно. Помнишь? Ладно, не ври. Там ещё виолончелист был из филармонии, умер прямо на репетиции, тот с документами. И мальчонка в той же машине, рядышком с этими, чёрноволосой и виолончелистом. Ну, выгрузили, сложили в ряд, уехали, я пересчитала. А мальчонка голенький, порубленный весь, щека лоскутом свисает, спина в дырах. Не осколки, нет, человек постарался, я уж научилась различать. И вдруг так мне этого мальчишку жалко стало: маленький, тощенький, волосики торчат, белые такие, мягкие, как пух тополиный. И глаза открытые, синие-синие. Пошла к начальнику, говорю, дай рогожу какую, мальчонку прикрыть, замерзает. И спохватилась: всё, думаю, началось. Куда замерзает, кто? Умер уже, отмучался, ни холодно ему, ни голодно. А начальник на меня поглядел, слова ни сказал, видно, лицо у меня такое было… Дал кусок брезента, я мальчонку прикрыла, подоткнула с боков, словно одеяло сыночку, которого у меня нет и не будет. И в сторожку, бумаги заполнять, бумаг-то много было, сейчас думаю: зачем? Всё равно три четверти «неизвестных», да и про известных ничего не писали, никаких табличек, не до этого. Чернил столько не производили, чтобы хватило на все фамилии, тысячи, тысячи, каждый день, каждую ночь.
О чём я? Да, кострами землю отогревали, потом кирками, по крошке, не хотела земля, словно противилась, словно не желала в себя принимать, не помещалось в ней столько. Той ночью всё случилось, в три часа, начальник спал на топчане, я с бумажками, вдруг слышу: кричат. Вышла на мороз, а там наши копальщики, один уже метров за сто усвистал, второй стоит, орёт, пальцем тычет. Они за мальчонкой пришли, брезент содрали, а там не человек – ящер. Вот как эти, детишки нынче на них помешались, доисторические. Чешуя, зубы вот такущие, глаз открыл жёлтый и зрачок узкий поперёк. Тут и я заорала, а он пополз. Да, прямо так и пополз, не веришь? Забор свалил и ушёл. Думаешь, выдумки? Я сама видела, и начальник, и копальщики. Мы потом замучились объяснительные писать, в архиве должно… Потому ко мне, что прочитал? Видишь, не вру. А утром пришёл комиссар, красивый такой, восточный мужчина. Вот как ты, чернявый, только у того скулы, татарин, что ли. У меня муж был осетин наполовину… Эх, вспомнила бабка, как девкой была. Да, пришёл, то ли бригадный комиссар, то ли дивизионный, точно не скажу. Выспрашивал про ящера, злился, на моего начальника накричал, будто мы в чём виноваты. Потом, правда, извинился, спирт достал, выпили. На службе, конечно, нельзя, но такому разве откажешь? А в следующую смену уже и забыли: новых повезли.
Я всех помню, до единого. Тысячи, десятки тысяч – помню. Молодые, старые, девочки, дедушки. Иногда думаю: на что юность положила? А иногда наоборот – значит, такая моя судьба, для того и родилась, чтобы всех проводить, всех помнить.
Но мальчика того, синеглазого – особо. И ящера жалко, холодно ему было, наверное, наш климат совсем неподходящий для ящеров, как думаешь? Замёрз наверняка, бедолага. Или поймал кто да съел.
Мне всех жалко. Вот так сяду, примусь вспоминать. И плачу, плачу. В человеке столько воды нет, сколько я выплакала, а не кончаются слёзы.
Я потому и помереть не боюсь: там у меня знакомцев не сосчитать, и все почти родня. А тут я одна осталась.
Совсем одна.
35. ЧП на чекпойнте «Фокстрот»
Европа, прошлый век
В восемь часов по берлинскому времени мастер-сержант Джонни Вальдер опустил отличный цейсовский бинокль, выплюнул бабл-гам, произнёс «холи шит», повернул на затылок козырёк бейсболки и вновь поднял окуляры к глазам.
В восемь ноль одну ефрейтор Гурбангулы Нурмухамедов прикрылся от солнца козырьком ладони, убедился, что не показалось, пробормотал «коканы сиктым» и принялся накручивать рукоятку полевого телефона. В восемь ноль три трубку наконец поднял помощник дежурного по полку прапорщик Свидригайло, выслушал доклад ефрейтора Нурмухамедова и резюмировал:
– На губу захотел? Ладно, ставите бражку в огнетушителях, но в пьяном виде на боевом дежурстве – это ни в какие ворота. Последним домой поедешь, тридцать первого декабря в двадцать три пятьдесят девять, понял, чурка? Красный заяц в центре Берлина! Почему не сиреневый слон?
В восемь ноль четыре мастер-сержант Джонни Вальдер передал бинокль напарнику, получил подтверждение и поднял трубку «мотороллы милитари спешиал эдишен».
– Сэр, Фокстрот-пойнт, наблюдатель мастер-сержант Вальдер. Сэр, у нас проблема, ситуация двадцать два. Оранжевый кролик на нейтральной полосе, повторяю, оранжевый кролик. Жду распоряжений, сэр.
Капитану Володину из семнадцатого ордена Красной Звезды радиотехнического батальона особого назначения приснился кошмар: капитан завалил сдачу норматива по бегу на три километра, полковник перед строем содрал с капитана погоны, вырвал с мясом значок «Воин-спортсмен», достал именной маузер из деревянной кобуры и выстрелил в лоб. Этот трагический момент привиделся за мгновение до того, как лоб капитана Володина сорвался с подложенного кулака и ударился о столешницу.
Капитан вытер набежавшие слюни, увидел красный огонёк на пульте станции радиоперехвата, включил магнитофон, прослушал запись трижды, после чего открыл толстенный справочник и, морщась, принялся шарить пальцем по строчкам: с иностранными языками у капитана любовь не сложилась, а сложилась взаимная неприязнь и холодная война.
Наконец нужное слово нашлось, капитан пробормотал вслух:
– «Раббит», компактный тактический ядерный заряд, применяется силами специальных операций армий НАТО. Бля, началось.
Капитан принялся накручивать диск, дрожащий указательный палец застревал в отверстиях над цифрами, но капитан мужественно преодолел тяготу воинской службы, подул на покалеченный палец и доложил:
– На пункте «Эф» объявлен оранжевый уровень готовности, повторяю, оранжевый. Ожидается применение тактического ядерного заряда мощностью до пяти килотонн в тротиловом эквиваленте. Так точно, товарищ полковник. Служу Советскому Союзу!
В восемь часов двенадцать минут был объявлен сбор в сто сорок седьмом гвардейском Изборском ордена Суворова мотострелковом полку. Солдаты завтракали, раздатчики пищи успели встать и опустить по команде черпаки в бачки с перловой кашей, когда заревела сирена, бачки полетели на пол, бойцы рванули прочь из столовой, давя упавших; на выходе стоял майор с секундомером, пинками придавая дополнительное ускорение зазевавшимся салабонам. Гремели железные двери оружейных комнат; офицеры торопливо целовали жён и, подхватив тревожные чемоданы, в которых смена голубого, как небо, белья, брошюра с решениями партийного съезда и бутылка водки, бежали в штаб полка; ревели дизели танкового батальона, в боксе автомобильной роты жирный лейтенант визжал на бойца первого года службы Иванова:
– Солдатик, мля! Где аккумулятор?!
Грохоча траками, танковый батальон вытянулся в колонну и уткнулся бронированным рылом в запасные ворота парка; дежурный по парку вывалил на пол все ящики стола, но ключ не нашёлся, тогда комбат нажал тангенту:
– Давай, воин!
Старший механик-водитель танкового батальона ощерил белоснежные зубы, врубил сразу вторую и дал, вынося ворота; пехота грузила в бронетранспортёры цинки с патронами, ящики с гранатами, вещмешки с пайком, полевые ленинские комнаты с фотографиями членов Политбюро; по парку каталась кругами командно-штабная машина, из неё торчал наглухо застрявший в люке багровый подполковник и орал, но что именно – не разобрать за рёвом моторов.
По чумазым щекам рядового первого года службы Иванова стекали слёзы, промывая светлые дорожки; рядовой крутил ручку кривого стартера, каждый пробегающий мимо сослуживец давал Иванову стимулирующего пенделя, и только ротный замполит поступил по-человечески: отвесил подзатыльник.
В восемь часов тридцать пять минут дежурный генерал главного командования союзных войск в Европе получил доклад о выдвижении русского мотострелкового полка к пункту «Фокстрот» и объявил оранжевый уровень угрозы. Три крыла стратегических бомбардировщиков В-52 поднялись в небо с ядерными бомбами на борту.
В восемь сорок две весь состав Политбюро ЦК КПСС был перемещён в бункер на глубине четыреста метров, да так аккуратно, что некоторые члены Политбюро даже не проснулись. В восемь сорок три советский космонавт на орбите прервал опыт с мухами-дрозофилами и привёл в боевое состояние лазерную пушку, замаскированную под приёмную антенну.
В восемь сорок четыре рота «Чарли» пятой бронекавалерийской бригады заняла боевые позиции; заряжающий головного танка замер с тяжёлым снарядом в руках, ожидая команды. С востока по Фридрихэнгельсштрассе подошла колонна танкового батальона сто сорок седьмого мотострелкового полка, комбат захлопнул люк, глянул в наблюдательный прибор и пробормотал:
– Ну всё, понеслась. Доигрались. Наводчик, подкалиберным по головному.
Наводчик облапил пульт управления стрельбой, воткнул лицо в резиновый наглазник и нащупал перекрестьем цель; мотор стабилизатора пушки пел тихо, грустно, словно прощаясь.
В восемь сорок пять Ангелина Дрейзе, шести лет от роду, подошла к оранжевому зайцу, подняла с асфальта, отряхнула и укоризненно сказала:
– Куда ты сбежал от меня, Клаус? Доиграешься, оставлю без морковки.
Ангелина Дрейзе, уже семи лет от роду, теребя оранжевые уши зайца-потеряшки, стояла посреди планеты Земля в перекрестье прицелов танковых пушек и пушек разрывающих небо истребителей-бомбардировщиков.
Ниоткуда возник человек в светлом плаще, поднял девочку на руки, обнял, посмотрел в зрачки прицелов и сказал:
– Не стрелять.
Командир танкового батальона сто сорок седьмого мотострелкового полка прижал ларингофоны к горлу, сглотнул комок и выдохнул:
– Не стрелять.
– Не стрелять, – сказал командир эскадрильи «Зелёные дьяволы» и повёл свои «фантомы» на запад, домой.
Советский космонавт на орбите вернулся к любимым дрозофилам.
Рядовой первого года службы Иванов рыдал в пустом боксе, выронив ручку стартера.
Секундная стрелка дрогнула и отскочила назад.
Город, осень
Елизавета покрутила картонный прямоугольник с золотым тиснением.
– Это демидовский особняк на Большой Морской, рядом с бывшим итальянским посольством. Роскошно живёт ваш Аксель.
– Чего это мой? – удивился Игорь.
– Ну, не ваш. Наш, общий. Родимое пятно капитализма в российской редакции. Я тут гуглила, у него странный провал в биографии: сначала всё как у людей, родился, учился, по юношам был в сборной города, по спортивной квоте на юрфак университета, звёзд с неба явно не хватал, потом в Высшую школу КГБ – и провал на пятнадцать лет. Всплывает в девяностые, и сразу владельцем нефтяного терминала в порту.
– Стандартная биография для олигарха.
– Да, но на любого олигарха полно компромата, не важно, правдивого или нет. А на Акселя ничего, вообще. Словно кто-то Сеть зачистил.
– Может, и зачистил, у него возможностей хватает.
– Так непрофессионально. Отсутствие информации порождает жуткие подозрения, заставляет работать воображение, правильнее было бы придумать биографию, даже слегка кривую для правдоподобия, и всячески эту выдумку продвигать.
– Ты и здесь специалист, – хмуро заметил Игорь.
– Я вообще девушка способная, только не ценят, – вздохнула Елизавета.
– Ценят, ценят. Тут это… – Дьяков скрипнул ящиком, достал конверт, протянул. – Возьми.
Елизавета убрала руки за спину:
– Что там?
– Возьми да посмотри.
– Чтобы оставить свои отпечатки, а конверт потом найдут рядом с трупом Акселя?
– С твоим воображением надо фантастику писать.
– Откуда вы знаете, шеф, – снова вздохнула Елизавета. – Может, я давно пишу, и вообще, знаменитый сетевой автор брутальных романов Макар Крепкий – это я и есть.
– Бери, говорю. Тут премия.
– Какая ещё премия? – прищурилась Елизавета.
– Денежная.
– Квартальная, годовая? Почему я, помощник директора, ничего не знаю о премии сотрудникам?
– Это не сотрудникам, это тебе. Лично.
Елизавета хмыкнула, взяла конверт, заглянула. Присвистнула:
– Ого! А знаете, Игорь Анатольевич, я возьму, мне гордость не по карману. В моём положении неуместно отвергать деньги, выданные начальством непонятно за что. Хоть дочке телефон куплю, давно просит. И самокат.
– Телефон? – удивился Игорь. – Ей же четыре года, кажется?
– Семь. Скоро восемь.
– Ну да, конечно, помню. Её Катей зовут.
– Настей, – поправила Елизавета. – Мою дочь зовут Настей, ей почти восемь, и она растёт, как одуванчик на асфальте, пока правильные «яжематери» возят своих деточек по секциям да кружкам и сутками торчат в родительском чате, а я по четырнадцать часов тут, в офисе, и по выходным тоже.
– Разберёмся с Конрадом, сдадим работу Акселю, дам отпуск. Ну, что ты так смотришь? Честно, дам неделю или даже две. Без тебя никуда, сейчас период такой, напряжённый.
– И этот период у нас десятый год, как фирму открыли, так и начался, – усмехнулась Елизавета. – Ладно, собирайтесь, настраивайтесь, дорогой шеф, приём в особняке у Акселя через три часа, будут все прокисшие сливки нашего славного города. За премию спасибо, в первую очередь от Анастасии.
Елизавета развернулась на каблучках, поцокала из кабинета. Игорь решился:
– Подожди, Лизонька.
Повернулась, брови поползли на лоб:
– Мамочки. Что случилось, шеф?
Игорь покраснел, опустил глаза, начал перебирать ненужные бумаги на столе. Пробормотал:
– Чего сразу «случилось»?
– А того, что Лизонькой вы меня называли первый и последний раз восемь с половиной лет назад. Так вот, что случилось, шеф?
– Не помню, чтобы называл.
– Разумеется. Что за приступ нежности?
– Это. Там пригласительный на две персоны.
– Я заметила.
Игорь перестал теребить бумаги, поднял глаза:
– Пойдёшь со мной? Давай, правда. Закисли уже в офисе, хоть отвлечёмся.
Елизавета задумчиво посмотрела на розовеющего Игоря.
– Я, конечно, могу вспомнить, что не готов анализ послевоенного архива Московской милиции или что мой внешний вид абсолютно не соответствует вечернему приёму. Но не стану. Там охотятся разнообразные хищницы, от великосветских львиц до голодных старлеток, а вы нуждаетесь в защите, как фигурант Красной книги. Пусть на меня, конторского крысёнка, будут смотреть с презрительным изумлением или изумлённым презрением, плевать. Ради любимого начальства готова на любые унижения. Поехали, шеф!
* * *
Таксист нервничал. Оглянулся, спросил:
– Долго ещё?
– Сам не понимаю, куда она подевалась. Никогда не опаздывает.
Игорь вглядывался в стеклянный барабан дверей бизнес-центра: он вращался, выпуская людей, но каждый раз не тех. Чертыхнулся, вытащил мобилу, принялся искать номер.
– Какая краля! – водила аж присвистнул от восхищения. – Не ваша?
Игорь мельком глянул:
– Нет.
И ахнул. По ступеням спускалась женщина в короткой юбке, открывающей великолепные ноги, в кургузом пиджачке («жакет» – вспомнил Игорь), с высокой причёской, сияющей, словно золотая корона.
Игорь отвалил челюсть, не помня себя, выскочил из машины, придерживая дверцу, подавая руку и чуть ли не кланяясь подобно ливрейному лакею. Елизавета благосклонно кивнула, опёрлась на протянутую ладонь и забралась в нутро такси; Игорь аккуратно прикрыл дверь и неожиданно для себя уселся на переднее рядом с водителем, словно был охранником.
Таксист обернулся:
– Куда едем, сударыня?
– Большая Морская, особняк «Памира». Только поторопись, пожалуйста, мы опаздываем.
– Сделаем в лучшем виде, сударыня.
Игорь медленно приходил в себя от потрясения. Лизка из двадцать второй группы, смешная, серенькая, дурацкий платок в горошек по глаза, плывущая глина раскопа в Старой Ладоге (сентябрь тогда выдался холодным); верная помощница в офисе, всегда с туго затянутыми на затылке волосами, белый верх – чёрный низ, причём низ строго ниже коленок, и каблуки, конечно, но сантиметров пять, а тут все девять. И откуда что взялось?
Таксист срочно поменял «Шансон» на «Джаз в Городе» и повёл машину солидно, словно управлял не престарелым «опелем», а каким-нибудь «роллс-ройсом»; в пробке толкались раздражённые, уставшие за день горожане, но «опелю» уступали дорогу, будто принимали за королевский экипаж.
Игорь посмотрел в зеркало над торпедой: Елизавета беззвучно смеялась, блестя влажным жемчугом меж ярких губ; наклонилась к переднему сидению, тихо сказала:
– С вами всё в порядке, Игорь Анатольевич? Как давление? А то вы розовенький весь.
Игорь ослабил узел галстука.
– Ну ты даёшь, Елизавета, прямо волшебное преображение, не узнать. Когда успела? Вроде домой не отпрашивалась, всё время здесь была.
– Дома у меня и шмоток таких нет, – вздохнула Елизавета. – Пришлось объявить срочную мобилизацию бухгалтерии, экспроприировала у девочек всё, от туфель до помады и плойки.
– Не видел, чтобы наши гномши-хранительницы ходили в таком.
– А они и не ходят, в шкафах держат. На случай внезапного свидания после работы или случайного корпоратива у клиента, в нашей-то фирме не разгуляешься, сами знаете – начальство прижимистое.
Игорь смешался, что-то пробормотал. Ехал, смотрел в окно на начинающую желтеть листву бульваров, украдкой поглядывал в зеркало на точёный профиль, на золотой локон, ласкающий шею Нефертити, на обтянутые нейлоном колени.
Было тревожно и сладко, как перед выпускным экзаменом по любимому предмету.
* * *
– Приехали, блин.
Таксист резко нажал на тормоза: перед машиной полицейский размахивал полосатым жезлом, словно зачёркивал улицу, за его спиной строились «космонавты» в тяжёлом снаряжении. Таксист высунул голову, крикнул:
– Что случилось, начальник?
– Движение по Исаакиевской площади перекрыто, разворачивайтесь.
Таксист глянул в зеркало заднего вида, выругался:
– Да куда там «разворачивайся», пробка до Невского.
– Вот влипли, – сказал Игорь.
– Пошли пешком, тут осталось-то площадь перейти, – предложила Елизавета.
Выскочили, и вовремя: нацгвардейцы ещё не успели разобраться и наглухо перекрыть проход. Игорь со спутницей торопливо зашагали – и тут же попали в кашу: площадь заполнялась кучками людей, орали мегафоны, самодельные плакаты хоругвями метались над толпой.
– Граждане, мероприятие не согласовано в установленном порядке, пожалуйста, расходитесь.
– И пока наши соотечественники в Идамаа стенают под гнётом нацистов…
– Невское казачье войско с божьей помощью формирует дружину добровольцев, истинных патриотов, богатырей земли русской…
Игорь почти бежал, таща за собой Елизавету, словно портовый буксир – королевскую яхту на морской парад; лавировал, просил:
– Извините, пропустите, мы чудовищно опаздываем.
Оглянулся: Елизавета запыхалась, порозовела, локон выбился из причёски и упал на лоб. Игорю вдруг показалось, что он ведёт Елизавету не на дурацкий приём к олигарху, а совсем в другое место, в небесный чертог, которому стенами облака, а солнце светильником…
– Куда прёшь?! Тилигенция.
Перед Игорем стоял человек в черкеске, сверкающей золотыми погонами, аксельбантами, газырями, крестами, значками и ещё чем-то блестящим; пузырились чёрные штаны с голубыми лампасами неизвестного казачьего войска и сверкали хромовые сапоги. На левый Игорь наступил по запарке.
– Извините ради бога.
Казак выпучил глазёнки, закричал:
– Не сметь, тасазать! Не сметь нашего бога всуе поминать, жидовская морда!
Игорь на всякий случай обернулся, переспросил:
– Вы про кого, уважаемый? Кто здесь жидовская морда?
– Ещё и кривляется, клоун!
Казак побагровел, щёки запылали лопающимися помидорами. Мешая слюни с матом, орал:
– Понабежали, либерасты! Сорвать народный сход хотите? Не выйдет, пархатый, кончилась ваше время, все будете на столбах болтаться!
Вокруг собирались люди в черкесках с разноцветными значками и погонами, от которых рябило в глазах, пыхтели смесью лука и перегара, мрачно смотрели на Игоря, теребя рукояти нагаек.
– Господа, это недоразумение. Нам просто нужно пройти, нас ждут…
Сбоку полыхнула вспышка: девица с коротким изумрудным газончиком на голове фотографировала очередями. Казак, польщённый вниманием прессы, приосанился, выпятил чахлую грудь, снял папаху, засияв розовой, как попка младенца, лысиной.
– Господа-а! – передразнил казак. – Какие мы тебе господа, сволочь?
– Ну, товарищи.
– Гляньте на него! Резиновый утёнок тебе товарищ, гнида. Ещё и шлюху свою приволок, тасазать.
Игорь дёрнулся, крепче сжал ладонь Елизаветы, прошипел:
– Что ты сказал? Извинись, скотина.
Казак на всякий случай отступил, вновь нахлобучил папаху, заверещал:
– Гляньте, православные, как нынче патриотов оскорбляют! Я ему, тасазать, не человек, я ему скотина…
Чёрная стена окружала, приближалась; на Игоря вдруг обрушилось осознание беспомощности, неизбежности, он тоскливо посмотрел в набухающее дождём небо, разжал руку – ладонь Елизаветы выскользнула, сжалась в маленький крепкий кулак.
– Рамсы попутал, фраерок? На кого наехал? Понты перед своими хомячками кидай.
Елизавета нависла над съёжившимся казаком, отвешивая фразы, словно пощёчины.
– Ви-виноват, тасазать, не признал.
– На правиле будешь блеять. Я тебя запомнила.
Елизавета взяла обалдевшего Игоря под локоть, повела, разрезала чёрный круг, как форштевень белоснежного клипера разрезает Маркизову лужу. Дьяков тихо спросил:
– Откуда лексикончик?
– Из сериалов, откуда ещё.
Казак выдохнул, бросился к зелёноголовой фотокорреспондентке:
– Прекратить съёмку! Отдай аппарат.
Девушка ловко проскочила под протянутой рукой, в два прыжка догнала Игоря. Елизавета обернулась, бросила казаку:
– Грабли прибери, она со мной.
Когда выбрались из кипящей толпы, девушка сказала:
– Игорь, привет. Ты меня не узнал? Я Белка. Мы с тобой в кафе познакомились, когда Конрад столешницей витрину вынес.
– Верно! Ты бритая наголо была, а теперь зелёная, как газон.
– Расту, не стою на месте. Тебе спасибо, систер.
Белка протянула ладошку, крепко пожала руку Елизавете.
– Я на тусу шла, к Акселю в особняк, а тут такое! Ну как упустить? Половину карты набила, типажи – пальчики оближешь. Никон чуть не расколотили два раза, сначала менты, потом эти нацики. Нервные все, осеннее обострение, что ли. Кстати, я Конрада недавно встречала, только он меня не узнал.
– Где?!
– В метро. Он вообще странный был, словно не в себе. Впрочем, как обычно, хорошо хоть стёкла не бил.
Дорогу перегородил нацгвардеец, открыл было рот, но спутницы Игоря одновременно рявкнули:
– Пресса!
– К Акселю!
И гордо прошагали мимо. Нацгвардеец лишь проводил живописную троицу растерянным взглядом и метнулся к старушке с котом на шлейке:
– Ваши документы!
* * *
Особняк Акселя, осень
Бухтел в микрофон популярный рэпер, чёрно-белыми пингвинами скользили официанты; лохматые типы в аляповатых шейных платках украдкой распихивали по карманам бутерброды, выливали рюмки в пластиковые бутылочки из-под воды (Белка хмыкнула: «Поэты баснями не питаются»); ценители толпились возле маленького картона, забрызганного белёсым, неаппетитным; рядом стоял автор в кожаной сбруе, тотально выбритый, без бровей и даже без ресниц, жмурился от комплиментов.
– Тут мини-выставка в холле, – пояснила Белка. – Сенсация осени, картина «Зачатие тирана, седьмое января пятьдесят второго».
– Посмотрим? – оживилась Елизавета.
– Буэ. Ещё я на засохшую сперму не любовалась, – передёрнула плечами Белка.
– Он что, прямо этим рисовал? – ужаснулась Елизавета.
– Ну да. Это же неонатурализм, никаких кистей и красок, исключительно имеющиеся в наличии природные инструменты, раньше он кисточки из собственных волос делал, но теперь дальше пошёл. Прошлый шедевр назывался «Взрыв пукана, весна четырнадцатого», пальцами рисовал, та картина ещё и пахла.
Елизавета поморщилась, Игорь спросил:
– «Зачатие тирана», говоришь? И это у олигарха-государственника в особняке? Когнитивный диссонанс детектед.
Белка усмехнулась:
– Абсолютли ноу. Как говорит дражайший Семён Семёнович, пусть хоть башкой унитазы раскалывают, хоть мошонки прибивают, лишь бы баррикады не строили. В нашей стране нет своих автомобилей и микроволновок, зато отлично налажено массовое производство клапанов для выпуска пара. Взять хотя бы…
Игорь не дослушал: его схватил за рукав и потащил в сторону дядька в перекрученном галстуке.
– Привет, я Филимонов, – жизнерадостно сказал дядя. – На пароходе познакомились, на «Памире».
– Помню, вы по металлоконструкциям.
– Ага, есть такое. Так вот, Аксель осознал наконец-то, разогнал бездельников, меня вызвал, аванс заплатил. Царский, блин, аванс! Теперь загрузка на полгода, хотя они торопят, конечно, чтобы в месяц уложился. Мальчик, стоять!
Филимонов поймал официанта за фалду, подтащил, посмотрел на поднос, крякнул, слил из трёх пузатых снифтеров в один, выхлебал коньяк, зажмурился.
– Иди, мальчик, только недалеко, поблизости дрейфуй, – распорядился он и продолжил: – Так вот, говорю, заказ роскошный, мечта, а не заказ. Поток, вари – не хочу, круглые сутки, сталь самая простая, электроды, как спички, копейки стоят.
– Рад за вас, – Игорь попытался закруглить странный разговор. – Я пойду, пожалуй.
– Погоди, – металлист вцепился в рукав крепкими пальцами в круглых пятнышках ожогов. – Погоди, мне надо рассказать кому-нибудь, не то лопну. Такая тоска, блин!
– Отчего же? Сами говорите: аванс, поток, загрузка.
– Я сборочный чертёж видел. Мне-то выдают на элементы, но там ерунда вышла с косынками, какой припуск делать – неясно, говорю: дайте общий вид, чтобы не напороть, а то потом не соберёте, моё-то дело маленькое, три элемента, тип «Аз», тип «Люди» и тип «Добро», дверь на петлях, дурацкие названия… Добро, прикинь!
– Обыкновенные названия, старорусская азбука.
– Погоди. Так вот, на сборочном чертеже общий вид, ну клетка и клетка, мало ли для чего, а там в легенде написано: «На двадцать человек». Понимаешь? Для людей клетки! На любой площади выгрузил, на болтах за пятнадцать минут собрал, и пожалуйте бриться – набивай! Людьми, понимаешь? Не депутатами, не нацгвардейцами, а людьми, то есть нами!
– Да ну, показалось вам, – неуверенно сказал Игорь.
– Мне?! Мне, Филимонову? Вчера новый чертёж присылают, на другую конструкцию, я гляжу: виселица разборная, блин. Я всякое говно варю тридцать лет, у меня чуйка. Точно тебе говорю: что-то будет осенью. Тип «Добро», понимаешь! Кому добро, а кому…
– Так откажитесь от заказа, раз такое дело.
– Не могу, – замотал головой Филимонов. – Я уже и сталь закупил, «Памир» платит, как из пулемёта. Не могу отказаться, выше моих сил. Вот так ночь не сплю, маюсь, думаю: всё, разрываю контракт. А утром приду – работа кипит, сварка искрит, таджики профилями гремят, носятся. Весело! Тут технологи облажались, там чертежи потеряли, этого отдерёшь, тому подзатыльника дашь, проорёшься – уже вечер. И опять ночь не спать, маяться. Знаешь, меня уже литр коньяка не берёт. Всё в башке эта виселица крутится, а на ней я висю… то есть, вишу. Филимонов собственной персоной, язык на плече, дерьмо из меня уже вытекло.
– Значит, не всё вытекло, – заключил Игорь и ушёл, не прощаясь.
Филимонов посмотрел ему в спину, крякнул и заорал:
– Мальчик! Ты, ты, с подносом, сюда иди!
* * *
Пограничный переход Россия-Идамаа, осень
Автобус стоял в очереди третий час. Старший ушёл договариваться, остальные маялись, как могли: впереди играли в карты, сзади время от времени раздавались взрывы хохота, рядом хрустели припасёнными огурцами, булькало и тянуло спиртным, хотя выпивать запретили строго-настрого; кто-то спал, кто-то тихо переговаривался. Макса аж мутило, так хотелось погамать, но мобильники отобрали ещё на выезде из Города, грубо обыскали, хлопая по карманам, из рюкзака забрали планшет. Макс чувствовал себя без гаджетов, как младенец, лишённый материнской груди, и чуть не плакал.
Соседом оказался седой дядька под шестьдесят, самый взрослый в группе, позывной «Отец». Макс видел его всего пару раз, Отец пейнтбол не уважал, считал придурью; рассказывали про него всякое и всегда шёпотом, оглядываясь; говорили, будто Отец прошёл и Афган, и Приднестровье, и Югославию, а последние полгода был в Африке. Сколько в этих рассказах правды, Макс не знал, но чувствовал себя рядом с ветераном неуютно.
Отец потянулся, хрустнул суставами, сказал:
– Вот так пацаны тоже сидели, ждали в восемьдесят втором на Саланге, а потом бензовоз рванул – и кирдык, двести «двухсотых». Там тоннель три километра, хрен выберешься.
– Это вы к чему? – осторожно спросил Макс.
– К тому, что жизнь прекрасна. Тут если что – прыгнул и в кустики, не в горном тоннеле, там-то не попрыгаешь, только если башкой о камень. И сидим с комфортом, кресла мягкие, кондишен, все дела. А не в кузове «зилка» жопы морозим, где холодно и дышать нечем, четыре километра над уровнем моря, кислорода жуть как не хватает. Так что нехрен ныть.
– Я не ною.
– Ноешь, я слышу, как всё в тебе хлюпает. Слабаки вы, порченое поколение, соплями истекаете. Вот ты хоть раз человека резал? Чтобы ножом, и в глаза смотреть? Чего молчишь? Да ты и не убивал никогда, вижу. Служил где? В связистах каких-нибудь?
– Я не служил, – тихо сказал Макс.
– Трындец, – Отец закатил глаза. – Понаберут салаг, и как с такими воевать? При первом же обстреле обосрёшься. Ладно, поближе ко мне держись, может, и выживешь.
Макс замер. Стало не по себе, словно в кинотеатре неожиданно врубили свет и сквозь экран в зал повалили настоящие монстры, объёмные и вонючие.
Старший вернулся с пограничником; сержант пошёл по проходу, раздавая паспорта из стопки. Мельком глядел в лица, называл торопливо фамилию, будто и ему тут было неуютно и хотелось поскорее закончить неприятную работу, выйти наружу, на солнце и воздух.
Отдал последний паспорт, вернулся к двери, оглянулся.
– Спасибо, товарищ сержант, – сказал старший.
Пограничник не ответил, скривился, вышел.
– Чего это он? – спросил Отец.
– Дык вставили пистона, сверху позвонили, чтобы без очереди, – усмехнулся старший. – Сейчас их граница, не ссать, морду кирпичом. Лишнего не говорить, мы спортсмены, едем на соревнования. Эй, на корме! Я кому сказал не бухать? Уши забило, шомполом прочистить? Доберёмся, будете сортир копать.
Сзади ответили:
– Как скажешь, начальник. Сортир не братская могила, можно и выкопать.
И захохотали.
Отец сплюнул прямо на автобусный пол, проворчал:
– Порченое поколение.
* * *
Особняк Акселя, осень
Белка притащила два бокала с замысловатым коктейлем, стали в угол, посматривая оттуда на клубящийся бомонд. Белка, перекрикивая рэпера, рассказывала:
– И руку протягивает, мол, обопритесь, сударыня, а я говорю: вы понимаете, что унизить меня пытаетесь, типа ставите на место, время патриархата давно прошло, другое теперь время. Слово за слово, я всё ему сказала, кукусику, и про кадровую политику, и про щипки за задницу, всё.
– А он что? – спросила Елизавета.
– Да психанул, теперь вот я без работы. Но удостоверение не отдала и десяток редакционных бланков с печатями стащила. Хотела хайп в сети поднять, жду, когда долги за фотки отдаст, неделя у него осталась.
– Если отдаст – промолчишь?
– Вот ещё! Полюбасу расскажу, трындец его аудитории, вполовину срежу. Давай выпьем, что ли, а то месяц сумасшедший был, да и год тоже.
– Или жизнь, – вздохнула Елизавета. – Выпьем, сестра.
Разгорячённый народ шумел, как прилив, собирался в кучки и распадался на пары, спорил, хвастался и флиртовал; Белка непринуждённо рассказывала:
– Первый опыт в пятнадцать, он сопляк, я дура, одно сопение и неловкость. Сколько я их поменяла, жуть! Сперва думала, что-то со мной не так, потом – что всё обман, вообще не бывает этого оргазма, все имитируют. А тут клёвый подкаст послушала, я тебе потом ссылку дам. Сделала всё по науке, две недели училась мастурбировать, и так, и этак, мне уже в сексшопе скидку дали. Ты хоть знаешь, что не бывает вагинального оргазма, это всё клюква, а клитор – он большой, бугорок – как верхушка айсберга? Остальное всё внутри, надо только понимать, где и чем. Вот у тебя как с этим?
Елизавета покраснела то ли от коктейля, то ли от смущения, сказала:
– Да никак, всё одного типа не разлюблю, а с другими не могу.
– Это Игоря? Да ладно, не потей, я же вижу, как ты на него смотришь.
– Как?
– Как мама на особенного ребёнка, с болью и нежностью. Чего хихикаешь, так и есть, они все альтернативно одарённые. И нафиг не нужны, без них лучше.
Белка подняла бокал, в этот миг рэпер неожиданно смолк, и на весь зал разнёсся тост:
– За мастурбацию!
Люди замерли, принялись вытягивать шеи, чтобы рассмотреть авторку столь своеобразного лозунга; Елизавета засмеялась:
– Тише ты, видишь, народ челюсти роняет.
– Пусть роняет. Эй, вы! Да-да, вы все! Замшелые динозавры, бумеры, копролиты! Другое время теперь, понятно?
Рэпер врубил минусовку на полную, гася Белкин спич, но бомонд продолжал испуганно коситься, отползать, так что вокруг девушек образовалось разреженное пространство.
– Давай, систер, выбирайся из болота. Ты понимаешь, что мир меняется и никогда не будет прежним? Россия – последний обломок.
Елизавета, несколько растерянная натиском, спросила:
– Может, не надо? Как-то непривычно.
– Латимериям тоже поначалу на суше было непривычно. Ты какого года, восемьдесят пятого? Угадала, значит. У нас не пятнадцать лет разницы и даже не век, а тысячелетие, эпоха! Всё по-другому, и вам, бумерам, надо либо признать это, изменить себя, либо сгнить, причём без пользы, из динозавров хотя бы нефть получилась.
Елизавета молчала, хмурилась, гладила тонким пальцем ножку бокала.
* * *
Игорь набирал тарталетки, собираясь отнести девчонкам, когда грохочущая музыка вдруг смолкла и на весь зал разнеслось:
– За мастурбацию!
Игорь вздрогнул, чуть не выронил тарелку, узнав Белкин голос, подумал: «Напились, что ли? Тем более надо закуску отнести». Стал пробираться сквозь толпу и увидел высокого человека с восточным лицом. Гость, ни с кем не здороваясь, быстро прошёл к распорядителю, кивнул и скрылся за тяжёлой портьерой. Игорь какое-то время постоял в задумчивости, сунул тарелку официанту, подошёл к распорядителю:
– Я Игорь Дьяков, меня приглашал господин Аксель…
Распорядитель приподнял безупречный манжет, глянул на часы, дежурно улыбнулся:
– Семён Семёнович ждёт вас через двенадцать минут, Игорь Анатольевич.
– Сейчас человек к нему прошёл – это ведь Рамиль Аждахов?
Распорядитель на миг напрягся, лицо дрогнуло. Совладал с собой, вновь улыбнулся:
– Понятия не имею, о ком вы, Игорь Анатольевич. Тем не менее не всё стоит произносить вслух. Вас проводят, подождёте в приёмной.
И подозвал охранника.
* * *
– Семён Семёнович, к вам господин Дьяков.
Секретарь сидел за гигантским навороченным пультом, словно перенесённым в приёмную из рубки «Энтерпрайза». Игорю даже стало любопытно, зачем столько тумблеров, клавиш и встроенных мониторов. Аксель ответил:
– Пусть немного подождёт, я приглашу.
Секретарь спросил Игоря:
– Кофе, чай?
– Американо без сахара, пожалуйста.
Секретарь развернул кресло к сияющей никелем и разноцветными огоньками кофеварке, повозился, вздохнул. Выудил из-под пульта пахучий пакет, заглянул в него, смял.
– Простите, зёрна закончились. Сейчас принесу.
– Да ладно, переживу.
– Нет-нет, дело не в вас, Семён Семёнович любит, чтобы всё и всегда было в порядке. Я мигом, спущусь в кухню и назад.
Игорь разглядывал приёмную, похожую на кладовку при антикварном магазине – много, дорого и бестолково: персидские пешкабзы с прихотливо изогнутыми рукоятками, зулусские ассегаи, деревянное монгольское седло, китайские фарфоровые вазы в человеческий рост на фоне туркменских ковров, древнегреческая амфора под портретом президента, неимоверно ржавая статуя дельфина… От такого винегрета рябило в глазах, а мозг историка закипал.
– Ты не скажешь, где «Дом Гавана»? Не могу ящичек найти.
Игорь вздрогнул – звук был отлажен безупречно, Аксель словно стоял за спиной – и не сразу понял, что голос доносится из динамика на космическом пульте.
– Алё, ты где? Со связью что-то.
– Да ладно, обойдёмся без сигар. Давайте по делу, Семён Семёнович, времени мало.
– Как скажете, Рамиль Фарухович.
Игорь напрягся, наклонился вперёд, стараясь не упустить ни слова. Голоса отдалились, словно говорившие отошли в сторону, но слышно было вполне отчётливо.
– Во-первых, что с Конрадом?
– Мы стараемся, Рамиль Фарухович, очень стараемся. Силовые методы не работают.
Игорь поразился: Аксель извинялся, словно проваливший экзамен школьник. Такое поведение совершенно не соответствовало образу всесильного олигарха.
– Плохо, Семён Семёнович, весьма плохо. Пока Конрад активен, всё висит на волоске. Что ваш историк?
– Задействован приманкой, как вы и предлагали, но пока не клюнуло.
– Поспешите, счёт пошёл на дни, а скоро пойдёт на часы. Не забывайте про награду, пусть мысль о ней вас стимулирует. Я бы даже сказал, вечно стимулирует.
Раздался смешок Акселя. Рамиль продолжил:
– Ладно, что по делу?
– План «Осеннее обострение» вступил во вторую фазу. В данный момент заканчивается митинг на Исаакиевской. Как и согласовано, разгоном. Через полчаса запускаем в ротацию ролики на Ютубе: кровавый режим, предательство национальной идеи, вот это всё. Вечером ударный репортаж из Идамаа про ущемление прав неграждан русской национальности, фоном шествие нацистских ветеранов, утром логическое продолжение про спортивную команду, ну, это вы согласовали лично.
– Да, хорошо задумано, эффект должен быть.
– И дальше. Двести тысяч гастарбайтеров без работы – это здорово, бензин разольётся, останется только спичку поднести, но первоначальный план я решил изменить. Эпидемия – слишком долго, два-три месяца, для объявления чрезвычайного положения нужен полный коллапс, трупы на улицах, а где их взять? Кроме того, неизбежные карантинные мероприятия могут отрицательно повлиять на «хомячков», убавить пыл, они у нас слишком уязвимы в эмоциональном плане, залягут по квартирам с котами, не раскачаешь.
– Всё верно, Семён Семёнович, поэтому я уже принял меры, вам пора узнать подробности. Вместо эпидемии – Сосновый Бор.
Динамик замолчал. Игорь подумал, что Аксель всё-таки выключил трансляцию, но спустя минуту олигарх сказал:
– Отлично, отлично. Аплодирую стоя. Память у народа, как у гуппи, про чуму давно забыли, а Чернобыль и Фукусима – вот они, вчера. Ветер с запада несёт на город радиоактивное облако, власти скрывают, «хомячки» обличают, стройки закрываются, двести тысяч гастарбайтеров мгновенно остаются без средств к существованию. Паника, бардак, бегство властей, закрытие аэропортов и вокзалов. Мобилизация, железная рука. Великолепно!
– За что вас уважаю, так это за умение немедленно уловить суть. Вот именно: ветер не откуда-нибудь, а с Запада!
– Это на поверхности. А взрыв станции организовали, конечно…
Запыхавшийся секретарь ввалился с двумя пакетами, затараторил:
– Еле нашли, Семён Семёнович терпеть не может арабику, только робуста.
Под потолком приёмной разнёсся грохот шагов, загремел голос Акселя из динамика:
– Ты где шлялся, придурок?!
Секретарь побледнел:
– Я это. Кофе вот, я сбегал.
– Кто-нибудь есть в приёмной?
Секретарь посмотрел на Дьякова.
– Никого, только этот.
– Какой ещё «этот»?
Рубашка на спине Игоря мгновенно намокла.
Идамаа, осень
– Не по себе так-то. Ни оружия, ни водки, не на что морально опереться в чужой стране.
Старший сказал:
– Оружие утром привезут, всё путём. А за водку сам пришью, никакого баловства до акции.
Отец хмыкнул:
– Чем пришьёшь-то, если оружия нет?
– А у тебя ножик попрошу.
Ножик у Отца был приметный – узбекский пчак, острейший, Отец с ним не расставался. Если менты долюбятся – ветеранское удостоверение в харю, сразу под козырёк.
Разместились в бывшем санатории при сланцевой шахте. Везде евроремонт, белоснежные унитазы, прислуга вежливая, а всё равно совок ощущается, как его ни замазывай: сквозь краску «Слава КПСС!» просвечивает.
Старший ещё раз наказал, чтобы без водки, и уехал в посёлок на встречу с агентом. Парни грустили, шатались по территории, к бармену приставали, а тот:
– Нелься, господа-a, сапрещено спиртное по условиям вашего поселения. Ви ше спортласед.
Парни хотели бармена побить, да без водки ни куражу, ни интересу, плюнули. Отец полюбовался на страдания однополчан, достал из рюкзака литровую бутылку кефира, объявил:
– Ладно, гаврики, дам разговеться, а то моё доброе сердце кровью плачет на ваши тоскливые рожи смотреть.
– Иди ты, Отец, со своим кисломолочным продуктом.
Отец усмехнулся, пробку свернул, сказал:
– Воду неси. Всему вас учить надо, салаги. Тут чистый спирт, считай, пять бутылок водки. Наш брат должен грамотно нагрузку считать, каждый лишний грамм в рюкзаке – это трата сил, которые могут понадобиться на последнем километре марша. Вот у тебя что в мешке, палка колбасы и хлеба кило? Ну и дурак. А у меня три батончика «сникерс», на сутки – за глаза. Учитесь, пока я жив.
Ребята повеселели, побежали за посудой, разложились в номере, все не поместились – в коридоре толпились со стаканами, оттуда гоготали. Отец произнёс первый тост:
– За начало курбан-байрама! Пусть у Ибрахима на этот раз не дрогнет рука.
Парни удивились, но разъяснений не попросили: во-первых, какие вопросы, когда пойло греется, а во-вторых, к странностям Отца привыкли; к тому же он на Востоке оставил полжизни и полведра крови, может, и ещё чего кроме малярии и гепатита подцепил.
Через полчаса горючее кончилось, едва раззадорив, ребята опять затосковали, но Отец сказал:
– Вот так, через лес, на юго-запад, два километра – и кишлак, там лавка. Я сотку евро заначил, шлите гонцов. Только аккуратно, чтобы на старшего не нарваться, он тоже где-то в том квадрате болтается.
– Откуда про лавку знаешь, Отец?!
– Зелёные вы, как пенис лягушки. Прежде чем куда-то влезть, надо изучить, как оттуда вылезать, знать пути эвакуации, возможные посадочные площадки и тэ дэ. Гугл-карты вам в помощь, сопляки.
– Красава, Отец!
Гонцов определили жребием, исключив Отца и Макса: Отцу по сроку службы не положено, а Макс – пентюх знаменитый, такие на родной сестре триппер ловят, либо заблудится, либо споткнётся на гладком месте и тару разобьёт.
Когда гонцы перелезли через забор и скрылись в чаще, веснушчатый с Кировского спросил:
– А почему «кишлак»? Разве у чухонцев так деревня называется?
– Какая разница, чухонцы, чехи, чурки, один хрен – неруси.
– И то верно!
– Ладно. Пока пацаны за горючим бегают, расскажу одну поучительную историю, как раз про кишлак.
Кишлак
Его название по-русски не выговаривалось: нелепая череда горловых звуков. Поэтому мы называли его просто – «Кишлак».
Он стоял у перекрёстка стратегических дорог. До столицы провинции, где аэродром, штаб дивизии и относительная цивилизация – сорок три километра. Сорок три километра от глухого средневековья до двадцатого века.
Кишлак представлял собой неряшливую кучу глинобитных хижин, будто господь, брезгливо кривясь, бросил в пыль горсть бараньих какашек. Кривые улочки, затянутые узлом, зловонные арыки, прикрытые, словно чадрой, глухими серыми заборами, которые и гранатомёт берёт с трудом.
А у перекрёстка – базар. Большой, пёстрый и пахучий, как юбка цыганки. Торгаши прибывали со всей провинции и даже, ходили слухи, с той стороны. Продавалось там что угодно – от патронов до медных кувшинов, от нежноглазых верблюжат до оптовых партий маковой соломки.
Война тысячелетиями бродила по долине между двумя горными хребтами, острыми, как ятаганы. Со времён Александра Македонского, Дария и других древних царей, настолько древних, что даже историки не знают их имён. Кишлак сжигали, растаптывали в прах боевыми слонами, расстреливали из бронзовых пушек, но он возрождался, вновь вылезал из голых камней, словно упрямый гриб. Уродливый, пыльный и живучий гриб. А первым появлялся базар, будто яркое пятно на шляпке.
Мы стояли на горушке. Пехотная рота, сапёрный взвод. И выпендрёжники-связисты наособицу. У связистов всегда был часовой, дымящийся на жаре в полной экипировке – в бронике, каске и тяжёлых берцах. Стоял, истекая потом, пучил лопающиеся глаза и хрипел на слоняющихся пехотинцев:
– Стой, эта… Стрелять буду.
Тоска, конечно, смертная, а не служба. На рассвете сапёры под прикрытием двух «коробочек» уходили чистить дорогу от мин – раскалённым летом, мерзкой зимой; короткой, брызжущей неожиданной зеленью весною. Каждый день. Дорога – важный кровеносный сосуд, не уберёшь вовремя холестериновые бляшки – дело кончится тромбом, омертвлением провинции. Повылезают из пещер бородатые «духи», вырежут всех… Лучше не думать.
Мы слонялись по своему пятачку, огороженному самодельной каменной стенкой. Дулись в карты, ставили бражку. Периодически на прапорщика нападал приступ мизантропии, и он отказывался выдавать сахар и томатную пасту в жестяных вёдрах. Тогда снаряжалась тайная экспедиция на базар, за сырьём. Дембеля ходили покупать подарки родным: китайские спортивные костюмы, кроссовки, кто поухватистее – магнитофоны. Некоторым везло, попадались добрая смена, и по возвращении на родину таможня не отбирала всё это нищенское богатство.
Валютой служили мыло и тушёнка, только не свиная. Прапорщикам было легче, они могли приторговывать патронами; у офицеров водились местные деньги. Они тоже тайком ходили на базар. Иногда доставали водку неизвестного происхождения, но один раз дело кончилось плохо: подсунули «заряженную», и мы чуть не остались без командования. Взводному померещилась высадка инопланетян прямо на радиостанцию, и он начал палить из пулемёта в небо. Руки его тряслись, очередь пару раз зацепила кунг и высекла искры из антенн. Хорошо, что лента быстро кончилась. Взводный вопил, требуя патронов, а мы замерли на дне окопчиков. Лежать было колко из-за камешков, пыль забивала ноздри.
– Тащите боеприпасы! Где вы все попрятались, трусы? – бредил офицер. – У них ещё два тяжёлых имперских транспортника. Дарт Вейдер, ты не пройдёшь! И не надо пыхтеть.
На самом деле это пыхтел часовой связистов. Он как рухнул плашмя, гремя всей своей многочисленной амуницией, так и лежал, не шелохнувшись. Пережидал ответный удар Империи.
Шум дошёл до высокого начальства. Приехал замполит нашего сто сорок седьмого полка, усталый дядька с вымороженными глазами. Собрал весь личный состав, кроме, разумеется, пугала у радиостанции. На стену повесили белый экран. Замполит говорил тихо, словно через силу:
– Вас, долболобов, убеждать бесполезно. Вы когда в армию шли, мозги дома оставили киснуть в мамином холодильнике, если у кого они были, в чём я сильно сомневаюсь. А те остатки, что изнутри к черепной коробке соплями прилипли, вам местным солнышком сожгло. Сколько раз говорить, чтобы не ходили на базар? Никакого общения с местными. У вас с ними может быть только один контакт – огневой.
Петька, наглый дембель из Питера, решил выпендриться:
– Как же так, товарищ майор? А интернациональная солидарность? Просвещение отсталых народных масс Востока? Мы, может, им Пушкина читаем, дуканщикам, фотографии из Эрмитажа показываем.
– Встать, – сказал замполит.
Сказал тихо, но так, что все начали подниматься с лавок.
– Две недели назад четыре таких культуртрегера тоже решили заняться просвещением местного населения. Пошли в дукан, ящик ворованного мыла с собой прихватили. Видимо, хотели не только за культуру поговорить, но и санитарно-гигиенический ликбез провести. Фотографии из Эрмитажа, говоришь? Я вам сейчас другие фотографии покажу.
Майор включил проектор. На экране появился молодой хохочущий парень, лохматый, усатый, обнимающий хрупкую девушку.
– Это Коля Козлов, из Новгорода. Двадцать четыре года, женат, дочка есть. Дембель. Пошёл на рынок подарков родне купить, через неделю его борт на родину.
Проектор щёлкнул, как снятый предохранитель «калаша». Сначала мы не поняли, что на снимке. Какая-то куча бесформенных пятен. Потом пятна собрались в картину.
Один глаз выпученный, вторая глазница чёрная, пустая. Изо рта торчала какая-то требуха.
– Мы их трое суток искали. Нашли, – тихо сказал майор.
Щелчок. Крупным планом – рука. Пальцы расплющенные, перекрученные под немыслимыми углами. Без ногтей.
– У него в кармане была фотография жены в купальнике. Дрочил, наверное, по ночам. Вот этими пальцами, – тихо сказал майор.
Щелчок. Четыре бесформенных кучи. Штаны спущены до колен, в паху – чёрные дыры.
– Поняли теперь, что у него во рту? – тихо сказал майор.
Щелчок. Из живота тянется верёвка, уходит за границу кадра.
– Животы вспарывали живым. И кишки вытаскивали. Кишки – длинная штука. Надолго хватает, – тихо сказал майор.
В мёртвой тишине гудел вентилятор проектора. Замполит выключил. Скомандовал:
– Садись.
Взводный булькнул, рванул из палатки – блевать. Остальные, хоть и бледные, не решились.
– Я вам ничего больше говорить не буду. Надоело. Мне весной на пенсию, буду в деревне пескарей ловить. Какое мне дело, сколько вас ещё в цинкачах отправят? И в каком виде? Гроб имеет заданные габариты и массу. Если у кого кишки не влезут – оторвём и собакам выкинем. Если кто-то бражку на минном поле ставит, чтобы офицеры не нашли, а потом у него пары ног не хватит – добавим камней для веса. Если от троих останется всего пятьдесят кило – равномерно разделим на три гроба, чтобы никому не обидно было. Задрали вы меня, идиоты малолетние. Делайте вы, что хотите, – тихо сказал майор.
И уехал.
Неделю мы ходили, как пришибленные. Не пили бражку, и на карты смотреть не хотелось.
А потом снова пошли на базар.
За водкой.
* * *
Отец закончил рассказ. Молчали, переваривали. Наконец, веснушчатый с Кировского буркнул:
– Умеешь ты настроение перед боем поднять.
Отец рассмеялся:
– Что, сопляки, скисли? Боец должен быть ко всему готов, а к смерти в первую очередь. Прежде, чем ступить на тропу войны, попрощайся с жизнью. Так гораздо легче. Я вот давно умер, сорок лет назад, когда восемнадцатилетним сопляком в Афган призвали.
Макс вздрогнул:
– Так вы привидение, что ли? Дух?
Отец нахмурился, начал подниматься с кровати:
– За метлой следи, сынок. Ты кого «духом» назвал?
Но до расправы не дошло: вернулись гонцы с двумя полными рюкзаками.
И пошла жара: курбан-байрам в Идамаа начинался весело.
* * *
Господин Уссипоэг – человек в высшей степени приятный, улыбчивый, в меру упитанный, вылитый Карлсон. Очень энергичный господин, словно моторчик внутри, только без пропеллера, и питается не вареньем, а денежными знаками.
Господин Уссипоэг ласково встретил пришедшего в посёлок старшего группы спортсменов из России, пригласил к себе в дом, на второй этаж, на первом у него магазинчик, лучший в посёлке, всегда прекрасный выбор спиртных напитков и садового инвентаря. Господин Уссипоэг не только добропорядочный гражданин и аккуратный налогоплательщик, он возглавляет местное отделение национально-патриотического военизированного союза «Kilpliit», что не мешает господину Уссипоэгу дружить с русским консулом. А ещё хозяин магазинчика почти без акцента говорит по-русски.
– Не волнуйтесь, уважаемый, – ласково говорит господин Уссипоэг старшему группы спортсменов из России. – Всё идёт по плану, ауто с вашим грузом приехает в санаторий ранним утром, и начнёте наш маленький пухкус, праздник.
Господин Уссипоэг довольно хихикает: ему нравится шутка про праздник.
Русский озирается: кабинет хозяина чистенький, аккуратненький, как вся эта маленькая страна. Русскому здесь неуютно, тесно.
– Комплектность поставки полная?
– А как же! – всплескивает красивыми маленькими руками господин Уссипоэг. – Тут Европа, тут принято исполнять контрактные обязательства в срок и согласно списку. Вот, посмотрите: автоматов АК-74 тридцать два, пулемётов три, снайперских винтовок четыре, гранатомётов одноразовых десять…
– Верю, – хмуро говорит старший.
– Если позволите, я закончу. Патроны пять сорок пять – четыре коробочки, винтовые патроны – четыре коробочки, гранаты…
– Не коробочки, а цинки. И не винтовые, а винтовочные.
– Что?
– Патроны, говорю, винтовочные, семь шестьдесят два. Ладно, хватит, я вам верю.
– То есть вы не хотите, чтобы я говорил продолжительно? Ладно, вот список. А вот карта. Для вашего мугавус, приятности, пометки написаны на русском языке.
Старший берёт глянцевый лист, кладёт на стол, водит пальцем.
– Ага, вижу. Вот полицейский участок, это мэрия, это железнодорожная станция.
– Да-да. А тут красненькое, микрорайон шахтёров, Ласна. Ваша, так говорить, васа.
– Что?! Ваза?
– Я хотеть говорил «пэ», паса.
– База?
– Та-та. Паса. Там всё созрелое, люди без работы, без гражданства, всё рухает, только вспыхнуть.
Русский складывает карту, прячет за пазуху. Господин Уссипоэг потирает ручки, жмурится, как толстенький кот на солнышке, словно представляет, как «всё вспыхнуть» и очень радуется этому.
Русский смотрит в окно на чистую тихую улочку: марципановая старушка ведёт на поводке трёх очень воспитанных джек-расселов. Он видит, как старушка падает с разбитой головой, собачки рвутся с поводков и скулят, а вокруг пылают раскрашенные весёленьким пряничные домики. Русский вздрагивает.
– Вы словно радуетесь тому, что всё рушится и вспыхивает.
– О да, конечно. Я всегда радоваюсь, когда хорошо делаю контракт, наш общий знакомый будет испытать удовольствие. Ну что же, отметим приступление к празднику?
Господин Уссипоэг достаёт пыльную бутылку, любуется этикеткой, наливает на донышко, вопросительно смотрит на гостя.
– Давай, давай, чего его нюхать, его пить надо.
Господин Уссипоэг доливает до половины, гость хватает стакан, выпивает, бьёт донышком о полировку, словно ставит печать.
– Давай, наливай.
Господин Уссипоэг вновь наливает и говорит:
– Отдыхайте, я отойду по делам.
Господин Уссипоэг улыбается, выходит из кабинета, аккуратно прикрывает дверь. Спускается по лестнице, внизу ждёт двухметровый блондин, командир отряда самообороны.
– Всё в порядке, херр Уссипоэг. Были гости, купили два рюкзака. Проследили, они уже в санатории.
– Отлично, отлично, Имре. Ну что, сынок, ты готов? А твои люди? Вот и молодец, сынок. Родина ждёт от вас мужественности и выдержки. Республика сто лет сражается за независимость, будьте достойны памяти павших борцов. Удачи, сынок!
– Спасибо, херр Уссипоэг. Выступаем в два часа ночи.
* * *
Вернувшихся из посёлка гонцов встретили радостным рёвом, так лежбище сивучей приветствует косяк сельди. В баре стащили в кучу столики, несмотря на робкие протесты персонала. Вывалили рюкзаки: запаянные фольгой пластиковые стаканчики раскатились по столешницам. Веснушчатый с Кировского взвился:
– Вы чё, тормоза, на хрена два рюкзака йогурта приволокли?
– Сам ты йогурт. Это самое забористое и дешёвое пойло, и посуды не надо.
Веснушчатый надорвал крышку, понюхал, глотнул, повеселел:
– Покатит!
Отец сказал:
– У нас в девяностые такие на каждом углу продавали, даже в киосках Союзпечати. Символ индивидуализма, пол-литра троих требует, а тут в одну харю, верный путь в социофобы. А ещё раньше маленькие бутылочки «чекушки» назывались.
– Чекушка – бестолковая дочка чекиста. Вздрогнем, мужчины!
Разобрали стаканчики, выпили по первой за удачу, после за успех акции, потом встали, молча выпили в третий раз. Зашумели, заговорили, закурили прямо в баре; за стойкой уронили и лениво пинали упрямого бармена. Веснушчатый пристал к Максу:
– Чего морщишься? Чего ты этот стакан греешь? Не отделяйся от коллектива.
– Да не люблю я…
– Посмотрите на него, пацаны! Рожу кривит, водку не хочет с нами пить. Гнилой ты, Макс, чужой, хрен знает, что у тебя в башке. Дай ножик, Отец, сейчас башку ему оттяпаем да поглядим.
Макс отступил, прижался спиной к стенке, в голове зазвенела пустота. Отец неожиданно вступился:
– Не дам пчак, свой надо иметь. И вообще, отстань от убогого.
– За кого ты вписываешься, Отец, за чмо? Игрун, всё в стрелялки гамает. И выступает ещё: мол, эм-шестнадцать лучше калаша. Ты в руках её держал, эту эм-шестнадцать? Подстилка ты американская, тьфу! Думаешь, завтра понесётся, так ты сохранишься и перезагрузишься? Да хрен там, игрун, не перезагрузишься. Видал я этих геймеров в ДНР: на понтах, от бедра очередями, бахнет разок, тапочки в стороны, и ручонками сучит, кнопку «резет» ищет. Отец, дай я ему врежу.
– Успокойся, сказал.
Веснушчатый сплюнул, отошёл. Отец похлопал Макса по плечу:
– Не ссы, в обиду не дам. Говорю, поближе ко мне держись, сынок. Папка-то есть у тебя или маманя одна растила? Ага, я же вижу, у меня глаз-ватерпас. Ну вот, считай, теперь я тебе папка.
Максу от этих слов стало тепло, глаза заморгали. Сбежал на улицу, чтобы не разреветься при всех, стрельнул сигарету, затянулся, закашлялся.
Подъехало такси, вышел старший. Услышал рёв из холла, подскочил, схватил Макса за грудки:
– Вы чего творите, придурки? Сказал же, сидите тихо, хотите, чтобы кураты полицию вызвали? Ну, чего блеешь? А, что с тебя взять, с убоища.
Ударил в лицо, Макс на ногах не устоял, упал в кусты, но вставать не спешил – лежал, размазывая кровь по лицу, слушал матерные раскаты старшего и неуверенный бубнёж в ответ. Потом всё стихло, на крыльцо вышли старший и Отец, вспыхнули огоньки сигарет.
– Ладно, они салаги безмозглые, но ты-то куда смотрел, – тихо говорил старший. – Где они синьку достали?
– Хрен его знает, может, с собой протащили, плохо проверили. Ладно, не кипишуй, проспятся.
– Утром привезут стволы, начинаем, а тут такая подстава. Ладно, бабки есть, раздал чухонцам, чтобы не пожаловались в полицию. Но ответственность на тебе. Ты допустил бардак, ты и будешь отвечать.
– Да хватит кудахтать, отлюбись от меня.
– Ты как с командиром разговариваешь?! Вот доложу Аждахову…
– Говно ты, а не командир.
– Что?!
– Хлебало, говорю, завали, не то вафля влетит. Я командиров видел, тебе не чета. Того же Аждахова сорок лет знаю, с Афгана. Что зеньки вылупил? А ты думал, тебя одного отправят на ответственное дело, без подстраховки? Считай, я тут смотрящий, а ты так, для мебели.
Старший кашлянул, сказал:
– Ладно, не обижайся, Отец.
– Мужчины не обижаются, только огорчаются иногда. Иди спать, завтра трудный день.
– Да надо бы пост выставить, смены назначить.
– Я пригляжу, иди.
Старший ушёл, Отец ещё постоял на крыльце. Уходя, запустил окурок в кусты; маленький метеорит полетел по дуге, словно сигнальная ракета, упал Максу на грудь. Вышел бармен в запятнанной кровью белой рубашке, выкатил велосипед, захрустела галька под колёсами. Становилось прохладно, но Максу не хотелось внутрь. Сидел на скамейке у крыльца, ёжился, смотрел на звёзды. Они моргали, будто не знали, заплакать или нет. Мысли ползли лениво, неровно, как слизни по гравию: почему Отец наврал, что ребята водку сами провезли, почему не признался? Он же ничего не боится, плевал он на старшего, и вообще, настоящий, уверенный, надёжный, каким и должен быть отец. В детском саду Макс убегал от крикливых ровесников под сиреневый куст, стоял, вцепившись в рабицу, смотрел на улицу, выбирал: может быть, вот этот усатый – его папа? Или морской офицер, уверенно шагающий с портфелем? Или тот, на спортивном велосипеде?
Макс лежал на скамейке, глядел на светлеющее небо, улыбался.
* * *
Хрустела гравием лесная дорога, поскрипывали колёса. Неожиданно вырос тёмный силуэт, поднял ладонь, останавливая. Бармен сказал:
– Напугал, Имре. Как ночное привидение.
Командир отряда самообороны самодовольно хмыкнул. Спросил:
– Как там?
– Всё по плану. Выпили, сейчас отрубятся, так что можете голыми руками…
– Это уже не твоя забота. Поезжай домой, сиди тихо. К девяти иди в полицию, как договаривались, расскажи про хамское поведение русских свиней. Мол, избивали, грабили, стреляли. Давай.
Бармен кивнул, забрался в седло, нажал на педали. За его спиной на лесную дорогу выходили бойцы, позвякивая плохо подогнанной амуницией.
* * *
Вышло легко.
Ни один не дёрнулся, не проснулся, заряженная господином Уссипоэгом водка сработала безукоризненно. Получилось тихо, только скрипел линолеум под берцами, хлопали глушители, звякали гильзы, да булькала кровь из перерезанных трахей.
Имре обошёл номера, остался доволен. Втянул тёплый сырой запах, улыбнулся, скомандовал:
– Заканчиваем, парни.
Выбивали стволами окна в номерах, из новеньких, в масле, калашей лупили в ночное небо, сыпали патроны на пол, Имре бросил в окно пару гранат, раскидал вскрытые цинки. Спустился в холл, набрал номер полиции:
– Господин комиссар! Командир отряда самообороны Имре Кодумаа, имею важное сообщение о предотвращении нападения русского диверсионного отряда, замаскированного под спортивную команду. Преступники обнаружены в бывшем шахтёрском санатории и обезврежены. Да, это они стреляли, оказали упорное сопротивление. Уже выехали? Отлично, жду вас.
Скрипнула половица за спиной, Имре мгновенно развернулся, наводя ствол. Выдохнул:
– А, это ты! Отлично сработано, приятель.
Протянул ладонь, но Отец пожимать не стал, спрятал руки за спину. Услышал далёкую полицейскую сирену, сказал:
– У меня всегда отлично. Ладно, бывай, мне светиться нельзя.
Вышел через кухню, открыл калитку, шагнул на лесную тропку. Остановился, замер, положил руку на рукоять ножа. Из кустов вывалился Макс, зарёванный, дрожащий, уткнулся в грудь:
– Отец, ты живой, слава богу! Я видел, как ребят убивали. Вышли из леса – и всех, всех.
Отец обнял Макса, погладил по голове, тихо произнес:
– Не реви, всё уже кончилось, всё проходит, сынок. Ну чего ты? Дрожишь, как ягнёнок под дождём, эх.
Подождал, когда Макс успокоится, ударил в печень. Поставил на колени, зашёл сзади, схватил пальцами за нос, задрал подбородок. Попробовал большим пальцем лезвие пчака, довольно улыбнулся.
– Прощай, сынок.
И перерезал горло.
Город, осень
Мой город не мускулистые атланты и равнодушные сфинксы, не граф Суворов в античных доспехах, не бронзовый всадник с выпученными глазами. Хотя, и они тоже.
Мой город – это старушка в шляпке с вуалью, продающая потрёпанный томик Блока у метро, студентка филфака, прячущая в газету «Пятьдесят оттенков серого», узбек в оранжевом жилете, наизусть знающий всего Алишера Навои, – да кто его будет слушать?
Рыжий кот, бегущий краем Невки. Чёрный пёс, положивший морду на лапы.
Мой город – Исаакиевская цитадель, четыре батареи по двенадцать ракет цвета свернувшейся крови.
Грозящие небу рифлёные пулемётные стволы колоннады Казанского.
Мой город – это мальчишки с игрушечными автоматами в парке.
– Тра-та-та! Ты убит.
Да, я убит. Я завис между небом и землёй. Мальчишки всегда играют в войну – и когда-нибудь доиграются.
Город, беременный бедой. Вопли сирен, вспышки полицейских огней, реконструкторы в наполеоновских мундирах с драгунскими палашами в руках. Или это топоры?
Небо, беременное дождём. Тяжёлые капли-разведчики падают, закрепляются, расширяют плацдарм, готовя высадку. Белоголовая девочка лет семи, петухи выбиваются из косичек; нелепый, как апельсин на серой солдатской шинели, оранжевый зонт, смятый, драный, торчащий стальными спицами.
– Это бывший мамин зонт, – говорит девочка. – Он немножко поломанный. Зато мне мама телефон купила, я теперь мультики смотрю. Про крокодила, у которого болели зубки, но птичка Тари его вылечила. Конрад так не может.
Я вздрагиваю.
– Конрад? Что не может Конрад?
– Зубки вылечить крокодилу, – объясняет девочка. – Может, он крокодила боится, точно не знаю, я ему показывала книжку, вроде не испугался, хотя кто же Гену боится? Но, вообще-то, он же воронёнок, зубы лечить не его профессия.
Я ничего не понимаю. Переспрашиваю:
– Профессия? Воронёнок?
– Дяденька, вы что, забыли? Конечно, воронёнок, это вы его спасли. Конрад уже подрос.
– Подрос, – повторяю я за девочкой. – Совсем подрос.
– Ну и вот. А птичка Тари маленькая, она во рте у крокодила помещается. Наверное, правильно во рту, а не во рте. А Конрад не помещается, и потом, вдруг крокодил не поймёт, что его спасают? Возьмёт, да и съест Конрада. Это ведь опасно, дяденька?
– Опасно, – бормочу я. – Особенно если Конрад и есть крокодил, самоедство убивает.
Девочка качает головой, оранжевый зонт качается в такт, подаёт сигналы.
– Вы точно забыли. Я Настя, а Конрад не крокодил, он вороний птенец и очень любит горох.
– Горрох.
– Ага, – смеётся девочка. – А мультик хороший, хоть и старый. Но я вам показать не могу, мне мама не разрешает телефон на улицу выносить, когда гуляю, говорит, потеряю. Я растеряха, да. Пойдёмте, дяденька, дождь всё сильнее, вы промокнете. Или вы не боитесь, потому что в плаще? Вы всё время в этом плаще, и когда жарко, и когда холодно. Зимой тоже?
– Всегда, – говорю я. – Я всегда в светлых одеждах.
– Пойдёмте, ну пожалуйста, вместе мультик посмотрим про птичку Тари, и как Маша над медведем смеётся, она прикольная, хотя мама говорит, что давно бы за такое поведение по ж… по попе надавала. Мама не велит гостей приглашать, но за вас не будет ругать. Пойдём, а?
Я устал. Устал прятаться, бродить, разговаривать с призраками. Я не спал с весны, я устал.
Девочка отдаёт мне оранжевый зонт с торчащими железными косточками, берёт меня за руку и ведёт.
Дождь всё сильнее.
* * *
Особняк Акселя, осень
Дождь всё сильнее.
Девчонки сидят на скамейке напротив входа в особняк Акселя, один зонт на двоих, словно временное убежище, маленькая хижина, спасающая от неуютного мира. Белка спёрла открытую бутылку шампанского, вынесла в рюкзаке, один стаканчик на двоих, пьют по очереди. Белка говорит:
– Я долго привыкнуть не могла, что в Питере солнца нет. Плакала даже, домой хотела, в лето. Абрикосы, виноград, тонна вина в подвале. А потом свыклась как-то.
Елизавета говорит:
– Мой город особенный, тут солнце не на небе, а внутри людей, так и выживаем. Помнишь, у Георгия Цветова?
Город подарит влагу:
Серое крыш шуршанье,
Капель холодных ласку,
Нервного ветра срыв.
Город подарит небо:
Звёзды со дна «колодцев»,
Редкого солнца вспышку,
Росчерки белых птиц.
Город подарит ясность:
Строгость одежд гранитных,
Чёткость чертёжных линий,
Верный напор Невы.
Просто молчи и слушай,
Зонт убери и слушай,
Сбрось капюшон и слушай:
Музыка здесь.
Внутри.
– Не помню, – признаётся Белка. – Не читала, только фамилию слышала.
– Про него забыли, а Игорь вытащил из забвения. Статьи писал, лекции читал, памятник этот, когда танк нашли. Добился переиздания, трёхтомник вышел.
– Молодец Игорь.
– Козёл он! – говорит Елизавета и опять начинает плакать.
Белка ставит бутылку на землю, зажимает кроссовками, гладит подругу по плечу.
* * *
Приём у Акселя подходил к концу, лохматые поэты рвали у рэпера микрофон, губодутые кисы разъезжались на афтерпати, выбритый-выщипанный художник флиртовал с официантом, в углу спал мятый дядька в перекрученном галстуке. Игорь всё не появлялся. Елизавета наконец решилась, подошла к распорядителю.
– Дьяков Игорь Анатольевич, историк? А вам зачем знать, сударыня?
Распорядитель прилепил дежурную улыбку, но глаза оставались профессионально холодными, в интонации – снисхождение: много вас таких, любительниц выпить на халяву и подцепить мужчинку.
– Я его сотрудница, мы вместе пришли.
– Вполне может быть, сударыня. Так бывает: пришли вместе, ушли порознь. Игорь Анатольевич закончил переговоры с Семёном Семёновичем и давно уехал.
И контрольный:
– Уехал не один. С дамой.
Елизавета улыбнулась:
– Да, конечно. Он так и планировал, как я могла забыть.
Развернулась и пошла, покачивая бёдрами, чувствуя на спине и пониже плотоядные взгляды.
Улыбаясь, дошла до туалета, разревелась в кабинке. Оттуда, как улитку из раковины, её выковыряла Белка. Сказала:
– Конечно, козёл. Они все такие. Любому кусок сиськи покажи, бедром прижмись – родину продаст. Смотри. Эй, мужчина! Да проснись ты.
Лысый дядя всхрапнул, поднял багровое лицо, потрогал красной рукой перекрученный галстук.
– А? Электроды привезли?
– Да какие электроды?! Не хотите продолжить вечер в прекрасной компании?
Дядя прищурился, бесцеремонно отодвинул в сторону Белку, поглядел на Елизавету, причмокнул.
– Понимаю, не с Урала. Я Филимонов, ты любого в Питере спроси, скажут: никого нет лучше по металлоконструкциям. Поехали, девчонки, на Петроградке есть отличная чебуречная, продолжим вечер до утра, хе-хе…
– Я тебе говорила? – хмыкнула Белка.
– А потом в баньку, у меня баня в Войбокало, отдохнём, расслабимся.
Елизавета передёрнула плечами:
– Слюни подбери, дядя. У нас самообслуживание, подрочишь – расслабишься.
Взяла Белку под локоток, повела прочь. Филимонов вздохнул:
– Как всегда, блин…
* * *
– Восемь лет, как из декрета вышла, без продыху, без просвета, по четырнадцать часов. Утром в час пик, вечером в час пик, метро ненавижу: жмутся, воняют. Дочка брошенная, сама растёт. Письмо писала на Новый Год: «Дорогой дедушка Мороз, не надо мне ни самоката, ни телефона, просто найди моего папу и скажи ему, что я без четвёрок закончила четверть и стихи буду читать на школьном концерте. А если папы всё-таки нет, так сделай его, пусть тебе эльфы помогут!» Я письмо нашла, ревела. Из-за этой работы себя пролюблю – ладно, а дочку нельзя, понимаю, что неправильно, но ничего поделать не могу, всё на мне держится, он же без меня всё перепутает и забудет, бестолочь.
Елизавета проигнорировала протянутый Белкой стаканчик, глотнула прямо из горлышка, захлебнулась, закашлялась.
– Я сейчас на фрилансе, уже не представляю, как всё это терпела, – сказала Белка. – Помню, в маленьком издательстве, худредом, обложки эти идиотские с сиськами. Как-то запара была под новый год, серию запускали, весь декабрь, не разгибаясь, даже тридцать первого. Вывалились с девчонками на улицу, никакие, руки дрожат, в глазах сплошные пятна, а вокруг народ куражится, куда-то с тортиками бегут, в шапках этих дурацких с помпонами, фейерверки грохочут, а у нас сил нет такси вызвать, да и откуда возьмётся такси за полчаса до Нового Года, кто поедет? Сидим на скамейке, а одна, Ирочка, выпускающий редактор, маленькая и отважная, как воробей, говорит: «Господи, девочки, когда-нибудь это всё закончится, выбьем у главреда отгул, пойдём в лучший ресторан и напьёмся. Туфли наденем на каблуках, накрасимся, для себя, не для мужиков». Сидим, всё это представляем и ревём, ревём.
Белка заблестела глазами, хлебнула из стаканчика.
– С ним что-то случилось, я чувствую. – вдруг сказала Елизавета.
– Опять началось, – вздохнула Белка. – Хорошо же сидим, терапевтично, без истерики.
– А никакой истерики, трезво и разумно. Игорь никогда телефон не выключает, даже ночью. Из-за портьеры не выходил, я смотрела. И Аксель мутный, дело странное с этим Горским, изумруды, «Русазия», какие-то заговоры, то ли масоны, то ли рептилоиды.
– Про Акселя правда, систер, я интересовалась. Официальной информации ноль, а слухи плохие. Опасный человек, там такой шлейф с девяностых – внезапные инфаркты у конкурентов, стрелки-разборки, люди пропадали.
– Вот именно, пропадали. Надо что-то делать, нельзя же так сидеть, бежать надо!
Елизавета вскочила, вывернулась из-под зонта. Белка схватила её, дёрнула обратно на скамейку:
– Погоди, сначала подумать, потом бежать. В ментовку? Не примут заявление, только через трое суток. И потом, кто ты ему? Ни жена, ни мама.
– Сотрудница.
– Разве что. Потерялся директор, просим вернуть за вознаграждение, подпись, печать, исходящий номер.
– Полиция не поможет, ты права, особенно если Аксель организовал, у него министры с ладошки клюют.
– И что делать? – спросила Белка.
– Искать Конрада. Анатолия Ильича Горского тридцать второго года рождения, весь сыр-бор из-за него. Вот и обменяем Конрада на Игоря.
Белка наморщила лоб, достала айфон.
– Это идея, у меня самой френд-лист тощий, а у знакомых блогеров миллионы подписчиков, попрошу – подключатся, фотографии Конрада есть. Кинем клич, может, кто видел, слышал, встречал. Хоть какой-то шанс.
Елизавета кивнула, достала последнюю сигарету, смяла пачку, оглянулась в поисках урны. Белка елозила пальцами по экрану, будто скатывала ленту в рулончик.
– Ого! Славно мы с тобой погуляли, систер, пока слезами обменивались, котики всё уронили.
– Что стряслось?
– Разгон митинга националистов на Исаакиевской, погром таджикского общежития на Просвете, есть жертвы, губернатор объявил чрезвычайную ситуацию; в Идамаа вырезана российская спортивная команда. «Мезуза» пишет: власти Идамаа утверждают, что готовилось восстание русскоязычного населения, обезврежена диверсионная группа, в распоряжении полиции безопасности список подпольной террористической организации, идут массовые аресты. Подняты по тревоге войска Западного округа, к границе выдвигается сто сорок седьмой мотострелковый полк. Во дела!
Мимо с рёвом пронеслась бьющая огнями полицейская машина, следом тяжёлые грузовики с зарешеченными стёклами, на ними качались головы нацгвардейцев в круглых шлемах, словно свинцовые шарики перекатывались в шрапнельном снаряде. Елизавета вскочила:
– Господи, у меня же ребёнок один дома!
Наклонилась, содрала туфли и побежала босиком, разбрызгивая лужи.
Город, осень
– Кап. Кап. Кап.
Комната похожа на одиночную камеру. Или камера похожа на номер эконом-класса в двухзвёздочном отеле. Функциональный минимум: койка, табуретка, унитаз, раковина. Кран подтекает.
Тогда, в особняке Акселя, вежливый секретарь вырубил Игоря с одного удара, затылок до сих пор ноет. Игорь очнулся уже здесь, в номере-камере, с матовым стеклом в единственном окне. На стекле нарисован силуэт Петропавловки. Окно всё время светится одинаково-серым, словно круглосуточная белая ночь при пасмурном небе; из-за толстого стекла не доносится ни звука. Может, камера находится в подвале Большого Дома, может, вообще в тридцати метрах под землёй, в личном бункере, по слухам, имеющемся у Акселя.
В двери откинулось окошко, возникли стакан с бледным чаем и тарелка с едой, без изысков, но вполне съедобной – макароны по-флотски. Ложка, стакан, тарелка – всё пластиковое, одноразовое. Ненастоящее, хрупкое, как жизнь Игоря.
Герой компьютерной игры, несомненно, нашёл бы выход. Обнаружил бы тайник с оружием в стене или лаз в потолке, устроил бы пожар и вырубил прибежавшего на дым охранника, а потом со связкой ключей пробрался по тёмным коридорам на волю. Игорь, следуя логике игры, прощупал стены, но тайника не оказалось. Кажется, это не игра.
Игоря не бьют, не допрашивают, не дают возможности героически плюнуть в лицо негодяю. Его будто забыли, стёрли, превратили в непись, в персонажа без слов и места в сюжете.
Игорь думает о том, что успел узнать из разговора Акселя и Рамиля. Другой, наверное, переживал бы сейчас за судьбу Города, страны, мира; Игорь думает только о том, что будет с ним. И как из этого дерьма выбираться.
Если Аксель до сих пор не закопал его на городской свалке, если тратится на одиночную камеру, макароны по-флотски и комплект пластиковой посуды – значит, ценность Игоря всё ещё выше нуля. Аксель не станет содержать убыточный актив, следовательно, есть время что-то вспомнить, придумать, сделать, что-то полезное для олигарха. Надо только догадаться, что именно, и использовать для спасения.
Игорь ложится на койку, смотрит в белый потолок. Итак, что ещё Аксель не знает о Конраде? Игорь не успел сделать доклад по последним результатам поисков, что-то ещё не сформировалось из-за недостатка данных, что-то и не планировал выкладывать, придерживал, как козыри. Ясно, что Акселю и Рамилю позарез нужен Конрад, но не любой Конрад, а готовый к сотрудничеству. И для этого нужны аргументы, которые должен добыть Игорь. Какие? Думай, Дьяков, думай, пока ещё есть такая возможность, у куска органики под многотонными завалами городского полигона такой возможности не будет.
Игорь морщится. Одна фраза, сказанная Акселем, никак не даёт покоя: что Игорь – приманка для Конрада. В каком смысле, почему? Когда-то, неимоверно давно, четыре месяца назад, Конрад сам пришёл в офис и попросил о помощи. Или – не сам? Эта первая встреча – результат хитроумной комбинации, в которой они оба, Конрад и Игорь, использовались втёмную? У Акселя есть опыт в таких операциях.
Нет, лучше об этом не думать. Какой смысл? Лучше искать пуговицу.
Итак, чего хочет Аксель? Денег? Игорь не инсайдер из «Роснефти», не топовый биржевой брокер. Власти, путь к которой – конфликт с Западом? Вполне управятся без Игоря, кандидат исторических наук не командующий округом, не глава парламентской фракции, даже не полковник нацгвардейцев.
Игорь зажмуривается, рисует в голове образ Акселя: не всесильного олигарха, с каким не справиться, не переиграть, а обычного человека, со своими изъянами и слабостями. Серое пористое лицо, узелки синих сосудов, одышка, толстое брюхо. Острые зубки, мелкие, как у какого-нибудь недохищника, ёжика или белки: улитку или гусеницу загрызёт, а вот лося или медведя – уже вряд ли. (Ну ты даёшь, Игорь! Да он магистральные газопроводы перекусывает и хребты вице-премьерам. Ладно, продолжай.)
Аксель, Аксель. Странная фамилия, и ассоциации такие… зоологические. Аксолотль! Неотеническая личинка, недосаламандра, мелкий хищник, питающийся мальками и червячками. Аксолотль никогда не станет драконом, а ведь хочется! Драконы летают, пышут огнём и пользуют принцесс для удовлетворения голода и похоти. Или наоборот: сначала похоти, потом голода? Ещё драконы охраняют золото от людей. Кстати, почему так? Может, напротив: людей от золота, этой отравы, соблазна, уродующего человека, превращающего творца в потребителя? Драконы – великие человеколюбы! Нет, не туда.
Аксель обладает колоссальной властью и богатством, но это временно. Почему? Потому что все мы временны, невозможно без конца продлевать проездной или срок правления «Памиром». Аксель хочет бессмертия!
Игорь сел на койке, вцепился в волосы: вот оно! А у Игоря есть кое-что насчёт бессмертия, он уже говорил Акселю про четыре свидетельства о смерти и возрождении Конрада, но это были спутанные показания ненадёжных очевидцев. А про единственное известное медицинское исследование не рассказал, не успел. Теперь главное – сформулировать, правильно подать. Можно и додумать, красиво заполнить лакуны, реставрировать скелет динозавра по единственной косточке, тут не до научной этики, разговор не о публикации в издании ВАК, о жизни. Обыкновенной жизни самого Игоря, а не о бессмертии, будь оно неладно.
Итак, послевоенный Урал, вокзалы, реэвакуация, жулики и беспризорники.
* * *
Свердловск, 1947
Небо замазано выдохами гигантских заводов, солнце натянуло облачный респиратор, с неприязнью смотрит на грязные отвалы Уралмаша, ртутный поток Исети, ёжик Уктуса цвета хаки, серых людишек на пыльных улицах. Свердловск пашет, давно отпраздновал Победу и вернулся в будни, демобилизованные с фронта переоделись в пиджаки и кепки, потянулись через проходные.
Потом будет ночь, багровые сполохи над Уралмашем, грохот над Химмашем, скрежет над Эльмашем; свинцовый рассвет, рёв заводских гудков, серый поток утренней смены, а навстречу – выжатая досуха ночная, и опять, снова, по кругу.
Одна радость – пивная после смены, загвазданные круглые столы-инвалиды на единственной ноге, папиросный дым, нетерпеливая очередь, сглатывающая слюну, кружки и пол-литровые банки, чекушка-прицеп.
– Айда, я воблу надыбал.
Достаёт свёрток, разворачивает газету, хвастается; идут в угол, где уже отдыхают ребята с механического участка. Встречают радостными воплями:
– Во, передовики пришкандыбали! Налуди им казёнки.
– Ну чо, бахнем?
Пивная гудит всё громче, смывает цеховой чад, угар трудовой вахты.
– Она такая сёдни: «Где темплеты?» А я пырюсь на дойки, не врубаюсь ни шиша. Баская цыпа!
Между столами бродит человек в обтёрханном пиджачке и треснувших очках, допивает опивки, докуривает бычки. Это Илья, бывший ленинградский интеллигент: застрял в эвакуации, да так и остался. Раньше трудился по научной линии, а чем сейчас на хлеб зарабатывает – бог весть, может, и ничем, ходит под статьёй за тунеядство. В пивной его знают, жалеют и подкармливают.
– Эй, очковый, кильманда! На, заточи, голодный небось.
Интеллигент прикладывает руку к груди:
– Премного благодарен.
Ест аккуратно, неторопливо, хотя видно, что голодный.
– Скрипишь?
– Спасибо, вашими молитвами, живой ещё.
– Дёрнешь чутка?
– Не откажусь.
– Начисли ему прозрачки в кружку.
Пьёт, дёргая худым кадыком. Глаза сразу начинают блестеть, как принято у алкоголиков. Собеседник отнимает кружку с пивом, сдобренным водкой:
– Тормозни, не то сразу в сани. Лучше повтирай обществу, как ты динозавра в Тянь-Шане нашёл, знатная байда.
Мужики смеются: байку про динозавра все слышали неоднократно. Илья обижается:
– Во-первых, не в Тянь-Шане, а на Памире. Во-вторых, это чистая правда…
– Ладно, не кипи. Мне вот другое интересно: почему ты застрял, домой не вернулся? Все ваши уехали.
Илья снимает очки, дышит на треснувшие стёкла, протирает тряпочкой. Отвечает:
– Не к кому мне возвращаться. Тёща, жена – все умерли. Сын, девять лет. Все.
Мужики молчат. Глотают пиво, один говорит:
– Да уж, Ленинграду всяко больше остальных досталось.
Между столами снуёт тощий беспризорник – белые волосы, чумазая физиономия. Дёргает за рукав:
– Дядя, дай чирик на хлебушек!
Работяга смотрит, прищурившись. Достаёт из кармана мятый рубль:
– Харя не треснет от чирика? На вот рваного тебе.
Беспризорник хватает купюру, не благодарит. Тянет грязные пальцы:
– Дай докурить!
– Не борзей, салага! Наркомздрав говорит, что курить вредно, особенно для юного организма.
Беспризорник шипит:
– Иди в пимы, жадюга, учит ещё!
Работяга выбрасывает руку, хватает наглеца за ухо, подтягивает:
– Ты чо буреешь, обмылок?
Второй говорит:
– Отпусти его, пошто пацана чуханишь? Иди, сына, уроки делай.
Беспризорник вырывается, отскакивает, бормочет:
– Чтоб вы сдохли, шюцкоровцы!
Илья вздрагивает, лицо его вдруг плывёт, раскисает. Наклоняется к мальчику, смотрит на белые волосы, в холодные синие глаза.
– Сынок! Тополёк, ты?
Распахивает руки, прижимает, обнимает. Гладит дрожащей рукой по голове, шепчет:
– Нашёлся, живой, кровиночка моя…
Мальчик утыкается лицом в обтёрханный пиджак, затихает. Поднимает глаза:
– Здравствуй, папка! Как долго я тебя искал. А вот и мама.
Илья вздрагивает, оглядывается:
– Где?!
Когда оборачивается, беспризорника нет, исчез. Собутыльники хохочут:
– Купился ты, очковый! Ловко тебя салажонок сделал.
Илья бросается, расталкивает посетителей, ищет.
– Ты чо барагозишь, водолаз? Пиво из-за тебя пролил.
– Вы мальчика не видели? Лет четырнадцати, худенький такой, синеглазый?
– Украл чего? Тут постоянно малолетние жулики шлындают. Ты карманы-то проверь.
Илья хлопает себя по карманам. Ноги подкашиваются, Илья садится прямо на загвазданный пол, закрывает лицо ладонями. Плечи его трясутся.
* * *
– Баско сработано, Струп. Много взял?
Синеглазый выудил из-за пазухи добычу, протянул:
– Лопатник, там триста целковых, у работяги подрезал.
– А что за очкастый тебя лапал? Я уж думал – хана, педрило пристал, встрять хотел.
– А, этот… Больной на голову, за сына принял. Пустой, только паспорт да два десярика, вот.
– Фартовый ты, Струп! Десярики себе можешь оставить, а рыло я старшему отдам, погоди тут.
Струп сел на ступеньку, прикрыл глаза. Вспоминал; на него часто находило, мельтешили странные картинки перед глазами: красивая женщина с волной золотых волос, ласковая, пахнущая солнцем; река со смешным названием «Тихоня», зелёная вода, четырёхпалая лапа, жёлтый глаз с вертикальным зрачком; ворона, клюющая горох с ладони… А то – совсем странное: натянутый на раму загрунтованный холст, девственный, чистый, и приятное чувство предвкушения, краски готовы, кисть выбрана, можно творить волшебство; пустой холодный зал, листки партитуры, пар изо рта, неверно звенящая, замёрзшая виолончель… Да, эта деревянная лабуда называлась «виолончель», и ещё много странных слов всплывало, их Струп никогда не слышал от беспризорников или от старших. Эрмитаж, дирижабль, шюцкоровец… Откуда они?
* * *
Свищ покрутил паспорт, хмыкнул:
– Ишь ты, Горский! Со мной, когда в Питере гужевался, в соседнем парадняке жили Горские, ещё там баба была, чистый атаман, Софья Моисеевна, как сейчас помню.
Пересчитал купюры, бумажник выкинул.
– Достойный хабар.
– Да, пацан толковый. Вообще ничего не стремается, чисто старый щипач, а не сопляк.
– Откуда взялся?
– Приблудный, на вокзале подобрали. Никакой был, бредил, глаза жёлтые. Думали, коньки откинет. А ничего, подкормили, пригрели – бегает. Далеко пойдёт, если не отвалится.
– С чего отвалится?
– Мутный он, ни побазарить, ни выпить с людьми. Спрашиваю, откуда сам, кто таков – говорит «не помню», «не знаю». Не спит вообще. Сядет в сторонке, думает своё. И ест совсем мало, не напомнишь – забудет. С головой что-то не того.
Свищ хмыкнул:
– Мы все не того, не профессура. А откуда погоняло такое странное, почему «Струп»?
– Так он весь в коросте был, как в чешуе, чистая лягушка. Одни струпья.
– Где ты у лягушки чешую видел?
– Да похрен, у гадюки, у лягушки, один чёрт. Сейчас оклемался, можно хоть поглядеть на него без ужаса. Мордашка даже симпатичная, глазёнки синие, лохи ведутся.
– Лады, надо к серьёзному делу его приспособить. Есть у меня мысля…
Заверещал свисток, ударился в стены пакгаузов, поднял стаи голубей. По проезду бежали милиционеры, дружинники – целая туча. Беспризорники порскнули во все стороны, словно тараканы на свету; их ловили, выковыривали из щелей, тащили в грузовики, схватив поперёк туловища, как римляне сабинянок. Свищу полагались наручники и отдельный автобус. Подвели к распахнутой двери, дали пинка для ускорения. Свищ стукнулся головой, прошипел:
– Полегче, начальник. Уважения требую, я вор старый, авторитетный.
– Давай, давай. Кончилась твоя педагогическая поэма, хватит мальчишек портить. Будем из них делать нормальных членов общества. Поехали!
Крик постового:
– Куда? Стоять!
Из грузовика выбрался тощий, белоголовый, не побежал – пошёл спокойно, вразвалочку. Контролировавшие задний борт дружинники сидели недвижно, вывалив языки, выпучив мёртвые глаза.
Постовой догнал белоголового, дёрнул за плечо, беспризорник посмотрел снизу голубыми льдинками, ударил расставленными пальцами – постовой схватился за горло, захрипел, упал на колени. Остальные беспризорники очнулись, посыпались через борт горохом, рванули в подворотни; следователь выхватил наган из кобуры, пальнул в воздух:
– Всем назад, стрелять буду!
Встал на колено, принялся всаживать в спину белоголового пулю за пулей, как в ростовую мишень на стрельбище. Белоголовый вздрагивал, но продолжал идти.
Свищ высунулся из двери автобуса, вытер лоб скованными руками, пробормотал:
– Во Струп, во даёт!
* * *
Город, осень
– В сложившихся обстоятельствах нам не оставляют выбора. Европа никогда не понимала нас, не разделяла наши ценности, зарвавшиеся реваншисты получат достойный отпор. Наши гиперзвуковые ракеты…
Человек не смотрит в глаза телезрителей, словно стыдится собственной лжи, а на самом деле его взгляд направлен мимо камеры потому, что он читает с телесуфлёра, это не его слова. Тогда чьи?
Мой Город населён детьми Бога: они тащат свои кресты сквозь враньё и нищету, а Виа Долороза покрыта воронками, ямами, лужами, и каждый слышит «Распни!» – но кто кричит эти слова?
В окно хлещет дождь, словно пытается взять штурмом тесный двухкомнатный аквариум на восьмом этаже «корабля»; капли храбро бросаются в атаку, разбиваются о стекло и сползают, беззвучно крича.
Мой Город населён святыми: круглый год они ходят по воде, летом по жидкой, зимой по замёрзшей.
– Мама говорит, что не надо смотреть по телевизору новости, чтобы не портить пищеварение. Давай переключим?
– Давай.
– На мультики?
– Конечно.
На экране мельтешат весёлые звери в виде разноцветных шаров с ушами и клювами. Американский снукер на русский лад.
– А я знаю, как делать салат, есть майонез и две помидорки, но мама не велит без неё брать ножик, потому что я ворона и могу порезаться. Будто мы с Конрадом сестрёнка и братик, ведь он тоже ворона! Смешно, правда?
Я согласен. Все люди Конраду родственники, и это страшно смешно. Смешно и страшно.
Воронёнок приходит, разрешает погладить, тычется клювом в мою ладонь. У меня нет гороха, он остался там, в промёрзшей квартире на Васильевском, в зиме с сорок первого на сорок второй.
– Давай помидорки, я помогу.
– А тебе можно, потому что ты уже взрослый?
– Потому что твоя мама мне не запрещала. Маму надо слушаться, маму надо беречь, чтобы потом не было горько.
– Горько?
– Да. Горько, когда нельзя вернуться и всё исправить, чтобы мама не плакала.
Девочка вздыхает:
– Мама плачет по ночам. Это из-за меня?
– Не думаю. Может, она вспомнила хорошую песню, настолько хорошую, что хочется плакать. Неси свои помидорки.
Девочка кладёт на тарелку два мятых плода в трещинках, подтекающих розовой сукровицей, приносит нож.
– Только ты осторожно, а то порежешься и будет кровь, тогда надо йод. Я знаю, где лежит йод, он так жжётся!
– Не переживай, даже если я порежусь, то крови не будет, если я сам не захочу.
Девочка удивляется:
– Почему не будет крови?
– Потому что я феномен.
* * *
Специнститут АМН СССР, февраль 1953
«…„рационального объяснения данному феномену пока найти не удалось“, так и сказал. Пациент „Струп“ поступил из специального учреждения МВД РСФСР № 14/56 в ноябре 1952 года, настоящие имя и фамилия неизвестны, год рождения приблизительно 1933-34. Руководство специнститута Академии медицинских наук СССР из вредительских шпионских побуждений умышленно затягивает исследование феномена, ссылаясь на нехватку фондов и лабораторного оборудования, а в то же время расходуя выделяемые им средства на вредную ерунду, тайно поддерживая буржуазные учения (см. сообщения от 12.07.52 о подпольных фрейдистах, от 06.01.53 о вейсманистах-морганистах и вернандистах, окопавшихся в рядах сотрудников СИ АМН). Что касается пациента „Струп“, то имеется путаница в документах, случайная либо злонамеренная, но два рентгеновских обследования противоречат одно другому, в одном якобы установлено засоление сердечной мышцы до каменного состояния, что исключает нормальную деятельность кровеносной системы, а в другом всё в пределах нормы. Так же дело и с анализами крови: из четырёх попыток взять материал на анализ дважды кровь в венах не была обнаружена. При осмотре на теле пациента выяснены многочисленные шрамы, в том числе входные и выходные пулевые отверстия, из которых не менее трёх несовместимы с жизнью. Совсем не разъяснено наличие присутствия сплошь на теле пациента „Струп“ роговых образований наподобие чешуек чёрного цвета.
Подводя итог, имею сообщить, что не всех империалистических агентов вычистили из института, другие ещё получают денежный оклад содержания за нар. счёт, их злобная ненависть к партии и сов. власти специально направлена на волокиту в таком важном деле, как продление жизни Вождя, так как данные пациента „Струп“ позволяют надеяться на открытие тайны бессмертия для пользы коммунистического строительства, а именно главных его прорабов. Предлагаю:
A. Немедленно отстранить от важнейшего дела исследования пациента „Струп“ завлаба и ихнего подпевалу тт. Зонис и Клещенко, т. Зонис считаю необходимым проверить на связь с делом врачей-убийц, тут товарищи явно недоглядели.
Б. Передать пациента „Струп“ в спецлабораторию МГБ СССР для ускорения важного дела исследования неизвестного феномена. Сам готов возглавить это дело как являющийся с дипломом зубоврачебного техникума и профильным образованием.
B. Первым делом сделать из крови пациента „Струп“ сыворотку-концентрат и применить таковую для продления жизни „Товарища Иванова“.
Преданный делу ком. Партии и мин. Госбезопасности Агент Протезист. 19 фев. 1953 г.»
* * *
Столица, 9 марта 1953
– Куда прёшь? Не видишь, проезд закрыт, как ты вообще в город въехал?
– Не шуми, сержант, нам на Лубянку, вот пропуск.
Сержант долго рассматривал, читал, шевеля губами.
Козырнул:
– Бумаги в порядке, товарищ майор, но всяко не проедете, всё перекрыто. Сами понимаете, тут такое. Третьи сутки не спамши.
Майор вернулся в автомобиль, зло хлопнул дверью. Водитель поморщился, спросил:
– Как, товарищ майор?
– Через косяк. Ждать будем. Движок не глуши, холодрыга. Этого бы не заморозить, должны сдать здоровым.
Водитель оглянулся на меня, пробурчал:
– Да кому он теперь нужен, всё равно опоздали.
– Много ты понимаешь. Такой всегда нужен, кто бы наверху ни сидел. Наше дело маленькое, приказ исполнить.
Я слушал этот разговор как сквозь вату, не вникая в слова. Было холодно, наручники давили невыносимо, хотелось отгрызть себе руки, чтобы освободиться; но я понимал, что мои кандалы – это я сам.
Я ненавидел их всех, ненавидел и любил; я закрыл глаза и смотрел, как колышется тёмное море на Красной площади, как толпятся на Самотёке, как клубится серая туча человеческих испарений, эманация горя и ужаса; я словно ухнул в трясину и захлебнулся там, в холодной вязкой глубине, хотелось наверх, глотнуть солнца, но солнца не было, солнце нынче лежало в гробу на артиллерийском лафете, так думали люди. То, что боролось во мне все эти годы, одерживая поочерёдно верх, вновь заворочалось, вонзило клыки друг в друга; раньше я всегда стоял в стороне, соблюдая нейтралитет, но сейчас победили рухнувший на всех холод, боль истёртых наручниками запястий и истёртых остатков меня; я встал за спиной Тёмного и подтолкнул его, помог; Тёмный благодарно скрипнул зубами, напрягся, надавил, и это движение пошло волной, набирая силу, отразилось от стен срезанной пирамиды цвета сгнившей крови – и ударило по плавающей в горе толпе; люди закачались взад-вперёд, взад-вперёд, словно гребцы гигантской галеры, форсирующей Стикс, и стронулись с места; они беззвучно кричали, распахнув рты, они пытались вдохнуть пропитанный слезами воздух, но не могли; трещали рёбра, ломались друг о друга костяки, вылезали из орбит глаза; люди топтали упавших, чтобы через секунду самим упасть под ноги стозевного чудища, чтобы смяться, растечься по брусчатке, превратиться в грязную жижу; вдруг я увидел глаза девочки лет восьми, глаза, уже лежащие на земле, уже покрывающиеся нетающими снежинками, и я вспомнил себя, стоящего над стариком возле булочной, вспомнил снежинки, падающие на серую, истончившуюся от голода кожу, исчезающие в чёрном провале рта; вспомнила себя, лежащую ничком на снегу с задранным подолом, вспомнил себя, лежащего голым на углу Кировского и Пионерской – и закричал.
Я закричал, ударил Тёмного, протянул руку Светлому и поднял его, почти задохнувшегося; потом я шёл по пустым улицам, заваленным башмаками и оторванными пуговицами, залитым кровью и слезами, я искал ту девочку, искал её глаза – и не находил; мрачные люди в шинелях зачищали улицы, не оставляя следов, как будто это что-то решало, как будто если вымыть с шампунем, отскрести напильниками, разбить ломами, заменить асфальт на плитку, залить всё напалмом – можно очистить землю, в которую уже впитались страх, кровь и боль. Впитались навсегда.
Я очнулся на перекрёстке Самотёчной и Делегатской. Наручников на мне уже не было, наверное, я их всё-таки сгрыз. Улицу зачистили, осталась лишь шапка с оторванным ухом и плащ, непонятно как тут оказавшийся; плащ был светлый, не по сезону, и неожиданно чистый, будто к нему не липли ни грязь, ни кровь; я содрал с себя чёрный ватник с номером и надел плащ, чтобы не снимать никогда.
Никогда.
Сказка про бескрылого птенца
Голубица вздохнула:
– Это невозможно! У меня послеродовая депрессия, я неимоверно вымоталась, сижу тут, толстею, а ты только знаешь, что порхать.
Папа-голубь вжал голову в плечи и забормотал:
– Милая, какое там порхать, ведь это гнездо строил я…
– Подумаешь, заработался он, натаскал щепок из хлама, – перебила голубица. – У других мужья как мужья, погляди хотя бы на скворца: гладкие дощечки, евроремонт, сухо и тепло. А ты накидал прутиков кое-как, ворковал-ворковал, задурил голову совсем. Говорила мне мама, а я, дура наивная, не слушала. Значит так, я полечу, развеюсь, разомну крылышки, а ты посиди вместо меня, тогда, быть может, поймёшь, какова она, женская доля. Да будь бдительным! Кукушки так и снуют, подкинут ещё дрянь какую.
Папа-голубь пересчитал яйца: их было три красивых, белых и одно пёстренькое, маленькое, неказистое; папа-голубь заранее пожалел это яйцо и полюбил больше других. И когда пел песню будто бы для всех, про себя знал, что обращается в первую очередь к пёстренькому:
Гули-гули, баю-бай,
Поскорее вырастай,
Вылупляйся, мой сынок,
Белокрылый голубок.
Шло время, голубица вновь сидела в гнезде, а папа добывал пищу, прилетал, кормил супругу и сидел рядом, переживал. Голубица ворчала:
– Специально этих червяков приволок, не мог чего-нибудь диетического достать? Скажи честно, я толстая?
– Нет, нисколько.
– Значит, тощая, да? Как цапля, да? Умеешь до слёз довести, козёл!
– Что ты, совсем наоборот, такая пухленькая, приятная глазу. Не плачь, пожалуйста!
– Скотина! Значит, всё-таки толстая. А ведь я из-за тебя жирная, из-за этих проклятых яиц, жизнь мою погубил! Скажи, я как гусыня, ну скажи! Отвечай, хам!
Папа-голубь запутался и замолчал.
– Крак!
– Крак-крак!
Голубица рассердилась:
– Издеваешься? Ты прекрасно знаешь, что я не владею иностранными языками, прекрати говорить по-вороньи.
Папа-голубь сам удивился странным звукам и не сразу понял, что это…
– Это наши детки! – обрадовалась голубица. – Вылупляются.
Она аккуратно выбросила из гнезда яичную скорлупу, принялась ворковать, лаская детей – и вдруг закричала:
– Ужас! Какой уродец!
Папа-голубь заглянул в гнездо, едва сдержал отвращение и сказал:
– Ну да, этот немножко чуть-чуть совсем не такой, как остальные трое. Ну ничего, перерастёт.
– Это кукушонок, несомненно! Где ты шлялся, когда я поручила тебе гнездо? Опять летал к этой расфуфыренной горлице?
– Ну что ты, я ни на секунду не отлучался.
– Позор, нам подкинули чужого! Какой он страшный! У него нет ног.
– Ничего, отрастут.
– И крыльев!
– Займусь с ним физкультурой, разовьются.
– И перьев!
– Наверное, ему не хватает кальция в организме. Выкормим, всё будет хорошо.
Папа-голубь делал вид, что любит всех одинаково, чтобы никто из птенцов не вырос эгоистом, но потихоньку подкладывал уродцу самые вкусные кусочки и украдкой гладил по расплющенной голове чаще, чем других.
– Остальные дети как дети, чирикают, а этот шипит, – ворчала голубица. – Всё-таки признайся, что нагулял его с горлицей.
Папа-голубь шептал:
– Милая, говори потише, ты воспитаешь в ребёнке комплекс неполноценности.
– Разумеется, – ядовито отвечала голубица. – Откуда ещё взяться комплексу неполноценности, только от матери-ехидны. Не от того же, что без ног, крыльев и перьев. Ещё и язык раздвоенный, вылитый папаша!
* * *
– Я догадалась! – обрадовалась Настя. – Если язык раздвоенный и птенчик без ножек, значит, змеёныш.
– Вот видишь, какая ты умница! Да, так оно и было.
– Интересно, как змеиное яйцо попало в гнездо к голубям?
– Не знаю.
– Папа-голубь молодец, что защищает сыночка, родители всегда должны защищать, обнимать и жалеть, даже если дети иногда разбивают любимую мамину вазу, совсем нечаянно.
– Несомненно.
– Интересно, что же будет дальше? Скоро птенцы подрастут и научатся летать, а змеёныш останется в гнезде, совсем один, ведь у него нет крылышек. Эта сказка с печальным концом?
– Не знаю, – честно признался я. – Видишь ли, я ещё не успел придумать финал. У меня катастрофически не хватает практики. Давай ты заснёшь, а я пока придумаю продолжение.
– Договорились. Я совсем немножко посплю, что-то глаза слипаются. А когда проснусь, моя мама уже вернётся, а ты додумаешь сказку. Спокойной ночи!
– Приятных снов!
Я выключил свет, подоткнул одеяло. Подождал, когда девочка заснёт, подошёл к двери. Настя пробормотала:
– Я знаю, он тоже полетит, потому что не змеёныш, а драконёнок, маленький такой дракон, детёныш.
– Дракончик?
– Ага. Ведь у некоторых драконов бывают крылья, просто не сразу вырастают. Но папа-голубь обязательно поможет, ведь он любит сыночка. Да?
– Да. Крыльев без любви не бывает.
Город, осень
Я сидел на крохотной кухне, похожей на запасники провинциального краеведческого музея, обставленной старой мебелью и заваленной всем подряд: коробочками из-под лапши, бумажными японскими веерами, куклами с боевой индейской раскраской, книжками, между страниц которых были заложены кухонные ножи… Воронёнок уселся на спинку стула и посматривал на меня строго, следя, чтобы я ничего не трогал руками в экспозиции, словно воронёнок был смотрителем этого музея. Особенно мне понравились два экспоната: ажурный чулок, свисающий с дверцы шкафа, от него я деликатно отвернулся, и чашка с синей розой; я смотрел, на неё, вспоминая бабушку, а потом – страшного человека с жёлтой лысиной, глотающего спирт; последнее воспоминание заставило остановиться, закаменеть сердце, чего давно не было.
Быть может, слух мой обострился, а может, звукоизоляция в этих «кораблях» дырявая: я слышал, как урчит кишечник водопровода, возится голубь на узком жестяном карнизе, как сопит в своей комнате девочка по имени Настя, и мне было уютно от этих банальных звуков чужого дома; заскрипел лифт, словно жаловался, что его разбудили в такую рань и заставили карабкаться на восьмой этаж. Завизжали створки, на гулкой лестничной площадке зазвенели два женских голоса:
– …рано ещё, блогеры люди творческие, до полудня не встают. Не психуй раньше времени, запустим поиск, будут результаты уже завтра.
– Завтра поздно, как ты не понимаешь. Куда девались ключи?
– Может, даже сегодня вечером. Говорю, у ребят только в городе сотни тысяч подписчиков, социальные сети – великая сила.
– Помойка, а не сила. Огромная такая помойка, крысы у голубей таскают огрызки, вороны гоняют кошек, чайки кричат, как потерпевшие. Да где же ключи!
Я иду к двери, поворачиваю тугой кругляш замка, открываю.
Красивая женщина с высокой разваливающейся причёской смотрит на меня и открывает рот, готовясь закричать.
– Не переживайте, с Настей всё в порядке, она спит.
Елизавета – её зовут Елизавета, помощница Игоря Дьякова, откуда она здесь? – отшвыривает меня к стене и бежит к двери детской комнаты. Вторая, одетая гораздо практичнее, выхватывает из кармана чёрную коробочку; коробочка зло трещит и плюётся искрами, я едва успеваю отскочить.
– Стой, где стоишь! Полиция! – кричит девушка с коротким изумрудным ёжиком. Где я видел этот газончик?
– Не надо полицию, я не сделал ничего плохого, меня Настя привела. Я Конрад.
Из комнаты выходит Елизавета, говорит:
– Не орите, ребёнка разбудите.
Девочка с зелёными волосами прячет злую коробочку, смеётся:
– Видишь, Елизавета, а ты не веришь в силу социальных сетей. Посты ещё не размещены, а Конрад уже найден. Я Белка, впрочем, мы знакомы. У нас к вам дело, Анатолий Ильич…
* * *
Особняк Акселя, осень
– Европа хитра, изворотлива, ей уже не раз удавалось ускользнуть от нашествия; так искушённый в интригах французский борец, смазавшись оливковым маслом, избегает поражения в схватке с русским природным богатырём, не даёт прижать тонкие лопатки к пыльному ковру.
Всё шло в ход – подкупы, интриги, яд и обман. Тысяча девятьсот тридцать шестой: армады лучших в мире бомбардировщиков, десятки тысяч стальных коней-танков, сплочённая орда и вождь-азиат; о чём ещё мечтать?
Дрожал пижонистый Париж, замерла в ужасе красавица Варшава, надменный Лондон испуганно вглядывался в туман над Каналом, Берлин – ещё в картонных, а не стальных доспехах – только начал восхождение к силе; всё было готово к нашему победному походу, к восстановлению Imperius Magnum. Но – не вышло. Упустили момент, перекипели, как кастрюля на плите нерадивой хозяйки, и вся сила, вся жажда крови не выплеснулись, как должны были, наружу, нет! Железный зверь, окрашенный алым светом Востока, не получил возможность рвать врага за пределом рубежей – и обратился внутрь, на самого себя, свихнулся в самопожирании. Возможно потому, что не явился ещё Дракон, он придёт на несколько лет позже, юный, слабый, не понимающий себя и своей силы, растущий. В сорок пятом вместо Рима и Стокгольма, вместо бискайских берегов и гибралтарской скалы получили объедки, остановились даже не на половине – на трети пути. Потом были ещё попытки, но теперь на пути возникали новые препятствия, и главное из них – Конрад! Конрад, который должен был стать рядом, слиться со мной, удесятерить мои силы – но он, наоборот, ломал всё мной созданное, портил заготовки, появлялся всегда не вовремя. Синайский кризис, Кубинский кризис, происшествие на пункте «Фокстрот» – несть числа. Его наивное человеколюбие, глупое стремление избежать неизбежного…
Рамиль был не похож на себя, всегда выдержанного, спокойного: пылали глаза, на смуглых скулах пробивался румянец, словно первое зарево степного пожара. Сдавил в ладони стакан – брызнули осколки, кубик льда вылетел на столешницу, кружась, как фигурист в тройном тулупе.
Аксель очнулся, наклонился к пульту, крикнул:
– Бегом сюда! Бинт и перекись, тут порезы.
Рамиль посмотрел на ладонь в глубоких ранах, вытащил осколок стекла, усмехнулся:
– Крови нет и не будет, по крайней мере, у меня. Ни крови, ни сердца.
Аксель сжался: Рамиля побаивались многие, но некоторые особенности, видные лишь при близком общении, вгоняли в реальный ужас.
Распахнулась дверь, на пороге возник запыхавшийся секретарь с аптечкой. Аксель махнул рукой:
– Иди, иди. Отбой тревоги.
Рамиль сказал:
– Именно, никакой тревоги, только уверенность. На этот раз всё получится. Ради этого я пахал двадцать лет, теперь Русазия созрела, прежняя Великая Степь возродилась, готовая к сплочению; улус Джучи, наследники персидских ильханов, империи индийских Моголов, династий Юань и Цин, все обломки державы вновь на конях, бездумные, дисциплинированные орды только ждут приказа Великого Хана.
Поглядел на перекошенное лицо Акселя, расхохотался:
– Что, личинка, даже половины не понимаешь? Ты и не должен, аксолотль никогда не станет драконом. Свою награду ты получишь, так что старайся. Осталось совсем немного, мы почти у вершины.
Аксель кивнул:
– Да, остались считанные часы. Я правильно понял, что группа из Идамаа уже…
– Это не твоя забота, моя, – перебил Рамиль. – Отвечай за свою епархию. Итак?
– Всё по плану, – Аксель зашелестел листками, пальцы его дрожали. – Через два часа парламент примет поправки об абсолютных полномочиях, сенат утвердит. После немедленно…
– Семён Семёнович, тут новости из бункера, – прозвучало из динамика. – Дьяков просится к вам на встречу.
– Не до него, – раздражённо бросил Аксель. – Ты сам не понимаешь, что ли? Пусть изложит письменно, передаст через охранника.
– Он упёрся. Скажет только лично вам, информация чрезвычайной важности. Относительно Конрада и… – секретарь запнулся. – И Рамиля.
– Дайте ему успокоительного, раза четыре, желательно не по голове.
– Зачем же, пусть его приведут, – усмехнулся Рамиль. – У нас часов пять, развлечёмся. Кстати, по моим расчётам, скоро должна появиться Елизавета.
* * *
Город, осень
Солнечный луч отразился от титанового покрытия новодельного купола, осветил потолок кухни, из мощных колонок донёсся колокольный звон.
Мой Город – разноцветный многокомнатный дом Бога. Вернее, коммуналка: голубая мечеть и багряный дацан, пряничный Спас-на-Крови, рыжая синагога и скромная лютеранская церковь на Большом, жёлтый католический собор на Невском по соседству с бирюзовым армянским храмом.
Только Бог живёт не в холодных стенах и золочёных иконостасах. Он живёт в сердцах.
Сердце этой девочки из другого тысячелетия доброе, правильное, помыслы её чисты, она за честность и справедливость везде и всегда. Зачем же сейчас она врёт?
– Аксель дал Игорю грант на исторические исследования, ну и вот. Вы нужны как важный очевидец некоторых событий, поэтому надо ехать в особняк.
Белка не смотрит в глаза. Крутит в пальцах деревянную палочку для еды, такими пользовались бойцы Хошимина, тощие вечные подростки. Подростки вечности.
– Ну пожа-а-алуйста! – Белка округляет глаза, тянется, гладит меня по руке.
Бедная девочка! Я вижу, насколько ей это трудно – притворяться, врать, кокетничать. Тигрица изображает кису, так недолго и раздвоение личности заработать.
– Вы же хороший человек.
Я прикрываю глаза. Выдёргиваю ладонь из-под её крепких пальцев, нежность им не идёт.
– С чего вдруг? Я плохой. Я убивал, из-за меня убивали. Что бы я ни делал, убивали людей. Я очень плохой. И я не человек.
Белка отшатывается. Сейчас она видит перед собой сумасшедшего капризного старика, губы её кривятся.
– Зачем вы врёте?
– А зачем ты врёшь?
Белка, наконец-то, ломает пополам ни в чём не виноватую палочку. Наклоняет упрямую голову, целится в меня; теперь она не киса и не тигрица, теперь она бычок, которому ветеринар по пьяни вылил на рога бидон зелёнки.
– Если честно, мне насрать и на вас, и на этого мажора Дьякова. Просто Лизу очень жалко, она из прошлого века, вся задавленная комплексом ответственности, да ещё верит в какую-то там любовь.
– Любовь есть, девочка. Любовь есть.
Белка передёргивает плечами.
– Несомненно. Любовь ко всем людям на Земле, независимо от расы, языка, пола или его отсутствия. Любовь к китам, амазонским деревьям и дождевым червям. А конкретного человека любить – глупость, даже подлость, хуже этого только любить себя. Нет, не так: себя надо любить, но как часть мира, весь мир бесценен и прекрасен, и каждая его частичка – бесценна и прекрасна.
Я смотрю на неё, на инопланетянку из третьего тысячелетия. Смотрю жёлтыми глазами с вертикальными зрачками, глазами давно вымершего динозавра. Я хочу спросить у неё: «А как же Бог?» – но вовремя затыкаюсь, я знаю, что она мне ответит. Вместо этого я говорю:
– Ты не понимаешь, Белка. Вы обе не понимаете: я нужен не Акселю, я нужен Рамилю. Именно такой – слабый, растерянный, обессиленный. Не как пленный и даже не как нейтрал – как союзник. И это самое страшное: одно дело – валяться без сил на дне окопа, и совсем другое – идти в атаку не просто на стороне врага, а в первых рядах.
Белка хмурится:
– Хватит трахать мне мозги. Атака какая-то, окопы… Мальчики обожают военные термины, причём неважно – юные мальчики или седые.
– А это и есть война, самая страшная в истории человечества. Последняя.
Белка закатывает глаза:
– Трындец, вот и Армагеддон подъехал. Теперь все в сборе, давайте поаплодируем новому участнику по имени Альцгеймер.
– Рамиль – страшный че… Страшный. В последний раз мы с ним пересеклись в афганском кишлаке, и всё закончилось…
Я не успеваю закончить: в кухню врывается Елизавета.
– Белка, ему надо говорить, как есть. Он поймёт.
Я морщусь: не очень вежливо, в третьем лице о присутствующем. Елизавета хватает мою чашку с синей розой, пьёт остывший кофе, грохает чашку на стол. Смотрит на меня и говорит с интонациями судьи, выносящей приговор:
– Горский Анатолий Ильич, тридцать второго рождения, мы сейчас вызываем такси и едем к Акселю.
– Конрад уходит?
На пороге стоит Настя в пижаме с жирафами, прижимая к себе оранжевого зайца:
– Мамочка, пусть он ещё немножко побудет, ну пож-а-алуйста. Он мне недорассказал сказку про папу-голубя и бескрылого дракончика.
Девочка плачет, я протягиваю руки, сажаю её на колени, глажу по светлым волосам, похожим на тополиный пух. Настя прижимается к моему уху, шепчет:
– Я придумала, что должен сделать дракончик, чтобы полететь: нужно выдрать чешуйки, тогда вместо них вырастут пёрышки для крыльев. Только это, наверное, больно.
– Я знаю. Очень больно.
Я целую Настю в волосы, они пахнут солнцем. Смотрю на Елизавету:
– Почему ты решила, что я поеду к Акселю?
– Потому что Игорь похищен, и его обменяют только на вас.
За окном, заглушая всё, ревёт сирена, мы бросаемся к окну.
По улице прёт колонна зелёных бронетранспортёров, впереди – могучий танк. Стены корабля дрожат.
* * *
Граница с Идамаа, осень
Рыбацкий баркас пыхтел дизелем, на корме трепетал чёрно-синий флажок; пограничник опустил бинокль и выругался.
– Оборзели чухонцы, им что, своей ряпушки мало, какого хрена к нашему берегу лезут? Пять километров, не больше. А, товарищ сержант?
– Имеют право по договору о совместном экономическом использовании акватории. Это корыто тут через день ползает.
Баркас протарахтел за мыс, скрылся из глаз. Шкипер вежливо вынул обгрызенную трубку изо рта:
– Слепая зона, господин Уссипоэг, русские радары здесь не берут.
– К чёрту имена, – прошипел господин Уссипоэг. – Лодку на воду.
Темнело быстро. В резиновую лодку спустились шестеро в полной экипировке. Командир группы, двухметровый блондин, спохватился, принялся сдирать шеврон «Kilpliit» с рукава, но господин Уссипоэг ласково положил мягкую ладошку на плечо гиганта:
– Не надо, Имре. Нам нечего стесняться, мы сражаемся за язык предков, за свою свободу, за всю Европу. Удачи, сынок!
Разобрали короткие вёсла, принялись грести. На фоне темнеющего неба долго был виден силуэт господина Уссипоэга с поднятой рукой.
Когда до берега оставалась сотня метров, Имре встал, балансируя на широко расставленных ногах. Увидел сигнальные огни, прошептал:
– Вон! Красный и белый, туда.
Песок сердито скрипел под берцами. Встречающий появился внезапно, словно ночной призрак, Имре выхватил пистолет, навёл.
– Тихо, тихо, горячий неместный парень.
Имре выдохнул с облегчением, сунул «глок» в нагрудную кобуру.
– Неплохо пы насвать пароль и выслусать отсыв.
Встречающий хмыкнул:
– Боевиков насмотрелся? В жопу шпионские игры. От вашей лодки за двести метров шум и вонь одеколона, вы что, на танцульки собрались? Европейцы хреновы.
Имре смущённо улыбнулся:
– И я pa-ад тепя видеть, Оте-ес.
– Ну-ну, сынок нашёлся, давай ещё в дёсны жахаться, у вас там с этим просто. Вот подогнали напарника, хоть за мылом не нагибайся.
– Сачем са мылом? – удивился Имре.
– Проехали. Давайте быстрее, скоро пограничный наряд пойдёт.
Лодку притопили, трос спрятали в камнях. Наломали веников, замели следы на песке.
На лесной дороге ждал фургон, Отец сел за руль. Шатало на ухабах, бойцы упирались ногами, Имре, тихо ругаясь, сполз с лавки на пол, чтобы не разбить голову о низкий потолок. Отец обернулся:
– Сейчас пост будет, сидеть тихо. Вон, брезент возьмите, накройтесь.
Брезент несусветно вонял соляркой и тухлой рыбой, Имре дышал через рот, бойцы сжимали автоматы со снятыми предохранителями, потели. Скрипнули тормоза, качнуло.
– Осветить лицо! А, это ты? Привет ветеранам!
– И тебе не хворать!
– Как рыбалка?
– Считай, никак. Десяток плотвичек да судак на полкило.
– В следующий раз повезёт. Проезжай.
Когда выбрались на трассу, Имре скинул брезент, поставил на предохранитель автомат, выдохнул. Сказал:
– Пардак. Посему не смотрели ауто?
– Потому что у меня пропуск в погранзону самим Аждаховым подписан.
– Большой человек этот Асдахов.
– Великий.
Имре подумал, тихо рассмеялся. Отец обернулся через плечо:
– Э-э, держи себя в руках. Чего ржёшь, башня съехала? Не рановато? До начала операции отставить неврологию.
– Просто тебя совут Отес, по-нашему Иса. И свою страну Идамаа мы иногда насываем Исамаа, страна отсов.
Отец хмыкнул:
– Так и мы свою вроде Отечеством называем. Всё, расслабьтесь, теперь до Соснового Бора не остановят.
Имре вновь перебрался на лавку, опёрся затылком о стенку, задремал. Вздрагивал, просыпался, сжимал автомат, смотрел через плечо Отца на выхваченную фарами дорогу, вновь прикрывал глаза, видел смеющуюся Марту, сползающую с пухлого плеча бретельку, руки папы, чинящие ломающуюся от соли рыбацкую сеть, слышал грубый русский мат дедушки, высланного в сороковом в Сибирь и вернувшегося только в шестидесятых. Вновь затрясло на ухабах: фургон съехал на лесную тропу, принялся переваливаться с боку на бок. Имре понял: скоро. Затрясло, холодные струйки побежали по спине. Наклонился вперёд, спросил:
– Толго ещё?
– Не торопись, а то успеешь.
– Всрывчатка готоффа?
– Не переживай, сынок. Взрывчатки полно, на всех хватит.
Отец остановил машину. Имре напрягся, подтянул автомат:
– Сто тако-ое?
– Не дёргайся, схожу отолью.
Тихо ворчал двигатель на холостых, журчал струёй Отец, где-то далеко кричала ночная птица, словно оплакивала кого-то. Отец вернулся, со скрипом сдвинул боковую дверь:
– Осталось полкилометра. Тол заберём у объекта, всё по плану. Начинайте срать в штаны.
Имре через силу улыбнулся. Отец сказал:
– Это на удачу, сынки.
И принялся закрывать дверь. Скрип не заглушил глухой стук. Имре вздрогнул:
– Ты что-то уронил, Отец.
Отец не ответил. Имре наклонился, нащупал ребристое яблоко, поднял. Пригляделся, понял, распахнул рот, но закричать не успел.
Когда перестали сыпаться обломки, Отец выбрался из кювета, отряхнул с куртки веточки. Посмотрел на пылающий фургон, проворчал:
– Вот не люблю я эти приблуды. Ножиком надёжнее и тише. Так, братище?
И погладил рукоять пчака.
Шёл по лесу легко, уверенно, словно по своей квартире. Когда пламя перестало метаться меж деревьями, достал мобильный, набрал по памяти номер, сообщил:
– Всё в порядке, Рамиль Фарухович, шпроты съедены. Выдвигаюсь на точку.
Подсветил фонариком, выковырял симку, разломал, раздавил каблуком телефон. Неслышно пошагал через дальше, нагибаясь под невидимыми в темноте ветками, улыбаясь: какая по счёту успешная операция, тринадцатая? Но первую, как первую женщину, помнишь всю жизнь. Хорошо тогда в кишлаке получилось. Даже отлично.
* * *
Особняк Акселя, осень
– Плохо выглядишь, Игорёк, а ведь и суток не прошло. Все вы такие: хорохоритесь, а как на киче чуток попаритесь, так всё, скисли.
Игорь дёрнул подбородком, сказал:
– Я не буду сейчас требовать объяснений, не буду говорить о том, что похищение человека – тяжкое преступление. Я понимаю, что вас никакие статьи Уголовного кодекса не остановят.
– Правильно понимаешь, – улыбнулся Аксель.
– Тем не менее, я благодарен за то, что вы согласились меня выслушать с глазу на глаз. Я хочу вам объяснить: вы зря верите Рамилю, он вас обманывает.
– Неужели? Ай-яй-яй, не может быть!
Игорь вздохнул, сжал кулаки.
– Я понимаю, что для вас не существует понятия элементарного уважения к человеку, однако…
– И это верно понимаешь, – перебил Аксель. – Вас миллионы, я один. За что вас уважать? Вас с лопаты говном кормишь, а вы причмокиваете и норовите лопату облизать. Давай покороче, Дьяков, времени нет.
– Хорошо, совсем коротко: Рамиль не даст вам бессмертия. Концентрат из крови Конрада не имеет никаких волшебных свойств, это выяснили ещё в пятьдесят третьем, я видел отчёты Специнститута Академии медицинских наук. Рамиль вас использует, выжмет и выбросит. В искусстве идти по трупам он может вашим коучем работать.
Аксель нахмурился:
– Почему я должен тебе верить?
Игорь понял: заглотил, надо подсекать.
– Вам известна история гибели афганского кишлака Бахоризуммурад в восемьдесят пятом? Архивы зачищены, прямых упоминаний нет, но мне удалось восстановить картину по косвенным данным, в частности, по журналу боевых действий сто сорок седьмого мотострелкового полка.
Аксель не перебивал. Слушал.
Демократическая Республика Афганистан, 1985 г.
Кишлак стоял здесь вечно, с тех самых пор, как белоснежный ангел из древней памирской легенды обгорел до черноты, разбился об лёд и превратился в дракона.
Строились и исчезали города, возвеличивались и распадались империи, кости могучих героев покрывала пыль забвения, непобедимые армии унавоживали поля, а кишлак по-прежнему стоял на перекрёстке дорог. Купцы останавливали караваны в тени его вековых карагачей, чтобы передохнуть после долгого пути через горы и перед долгим путём через пустыню; путники омывали уставшие ноги и рассказывали удивительные истории о том, что видели в путешествии, и о том, чего не видел никто; паломники шли поклониться вечным богам, имена которых теперь забыты, а кишлак надстраивал над плоскими крышами новые этажи для подросших сыновей, хоронил стариков и баюкал младенцев.
На рынке у перекрёстка дорог продавалось и покупалось всё: индийские слоны, персидские бронзовые пушки, ковры со сказочными узорами и юные рабыни. Кишлак покоряли, облагали данью, сжигали дотла, растаптывали в пыль, а он возрождался, давал приют гостям, услаждал их глаза зеленью молодой листвы, желудок яствами, а слух – игрой на рубабах, дуторах и карнаях.
– Потому что музыка лучше, чем рёв пушек, а торговать лучше, чем воевать, – сказал Мухаммад и огладил белую бороду. – Бахоризуммурад – мирный кишлак, мы всегда договариваемся.
Шурави было трое. То есть, конечно, их было гораздо больше, говорят, двести семьдесят миллионов, а в трёхстах метрах от дома Мухаммеда – четыре боевых машины пехоты и два грузовика, набитые солдатами, но по условиям переговоров в кишлак прошли только эти трое. Первый, плечистый полковник с сожжённым солнцем лицом, настоящий воин и вождь, второй – капитан, бледный, расплывчатый, ускользающий, словно болотная тварь, и третий. На третьего Мухаммад старался не смотреть, потому что высокий с тюркскими скулами, в выгоревшем камуфляже без погон, был тем самым Аждахом, нехорошие слухи о котором ходили от Кундуза до Кандагара, от притоков Пянджа до бурых вод Гильменда, от предгорий Памира до песков Регистана; везде, где появлялся Аждах, дело кончалось большой кровью, гибли и пуштуны, и таджики, и русские, доказательством тому бойня в Панджшерском ущелье прошлогодней весной.
Аждах говорил на таджикском, как на родном, поэтому переводчика не понадобилось; Мухаммад, в свою очередь, заявил, что немного знает русский.
– Самовар, комиссар, пулемёт, – сказал Мухаммад и улыбнулся, но в глазах старика таился страх.
– Странный у него словарный запас, – хмыкнул капитан.
– Нормальный, – сказал Аждах. – Его отец ушёл из советского Бадахшана в двадцать восьмом, с бандами Ибрагим-хана. Так что маленький Мухаммад успел немного изучить русский язык.
– То есть потомственный басмач, – удовлетворённо кивнул капитан. – Хорошо его наши товарищи учили, раз запомнил только комиссара и пулемёт.
Мухаммад смотрел на говорящих, не понимал, но продолжал улыбаться; у старика уже болели скулы, но отец учил: будь ласковым до последней секунды, нож всегда успеешь достать, да прятать будет поздно.
Полковник мрачно сказал:
– Рамиль Фарухович, может, перенесём ваши историко-лингвистические исследования на потом? Нам нужен этот перекрёсток, кровь из носу. Обстановка в провинции, да и на всём северо-востоке, полностью зависит от кишлака.
– Это ясно, – кивнул Рамиль и повернулся к старику. – Мухаммад-ака, мы ждём от вас верного решения. Мы хотим, чтобы Бахоризуммурад оставался мирным и не допускал к себе душманов.
– Мы мирные люди, торговцы, – немедленно ответил старик.
Когда Рамиль перевёл, капитан усмехнулся:
– Ага. Только есть агентурные сведения: у него четыре сотни бойцов, и оружие получше, чем доисторические карамультуки.
Старик понял без перевода. Продолжая улыбаться, сказал:
– Мы мирные люди, но всегда готовы за себя постоять. Каждый мужчина кишлака станет воином, если понадобится. Времена трудные, бандиты шастают.
Посмотрел на шурави, спохватился:
– Видит Пророк, мир ему, я не вас имею в виду. Мы готовы взять на себя обязательства по поддержанию мира и порядка в округе, но хотелось бы услышать и ваши предложения.
– Торгуется, барыга, – усмехнулся капитан, обнажив мелкие острые зубы. – Рамиль Фарухович, скажите ему, что мы готовы дать денег. Двадцать тысяч долларов из спецфонда, наличными, разумеется.
Старик выслушал, прикрыл глаза. Молчал, шурави терпеливо ждали. Наконец, произнёс:
– Моё солнце клонится к закату. Когда придёт время, покинутое душой тело омоют и покроют саваном, в котором не будет места для денег. Мои сыновья знают: чистую совесть не купишь. Ручей, неся ледяную воду с отрогов Гиндукуша, звенит на камнях, смех внучки звенит, словно струны дотара – клянусь могилой отца, да почиет он в садах Всевышнего, слава ему, эта музыка стократ ценнее звона монет.
– Цену набивает, – хмыкнул капитан.
– Я не отказываюсь от денег, – продолжил Мухаммед. – Наша школа совсем развалилась, а больницы никогда не было. Двадцать тысяч долларов – очень большие деньги, но деньги – искушение нечистого. Пусть же они послужат богоугодному делу, превратятся в новую школу и больницу, пусть добрая память о щедрых шурави живёт в поколениях.
– Мы согласны, по рукам, – сказал Рамиль.
Даже мрачный полковник улыбнулся, довольный исходом, но старик произнёс:
– Подождите, мне нужны гарантии.
– Моего слова недостаточно? – прищурился Рамиль.
Старик посмотрел в глаза Аждаха и твёрдо сказал:
– Нет. Наши мудрецы говорят: у змеи раздвоенный язык, две правды. Я хочу, чтобы твои слова подтвердил человек в белых одеждах.
Рамиль скривился, капитан спросил:
– Что там ещё?
– Конрада требует. Для гарантии.
– Не вижу препятствий, вы же с ним договоритесь, Рамиль Фарухович? Душка Конрад всегда за мирные переговоры, да?
И капитан захихикал.
* * *
Когда восток только начинает розоветь, отпуская на отдых уставшие за ночь звёзды, муэдзин поднимается по вытертым ступеням на минарет и зовёт правоверных к фаджру. Под его пение восклицательным знаком встаёт шлагбаум, и сапёры едут чистить дорогу от мин.
Через час прапорщик поднимает личный состав блокпоста сто сорок седьмого мотострелкового полка, зевающие бойцы выбираются из палаток по форме номер два, голый торс, ёжатся от утренней прохлады, мрачно глядят на неугомонного лейтенанта, придумавшего зарядку. Топочут, обегая каменную ограду блокпоста, посматривают вниз, на раскинувшийся у перекрёстка кишлак, слышат крики петухов и блеянье овец; вот мелькнёт стройная фигурка с кувшином, замотанная по глаза, посыплются скабрезные шуточки; после – плескание ржавой водой в лицо и завтрак, макароны по-флотски.
Когда полдень раскалится, задрожит жарким маревом над чёрными камнями, по дороге пойдут наливники из Кундуза, после – «уралы» с припасами, к вечеру – колонна десантуры из юрких бээмдешек; Невский проспект, как говорит лейтенант, выпускник Ленпеха.
Начальство часто приезжает на блокпост. То плечистый полковник из штаба дивизии, то из политотдела, проверять порядок, в котором развешены морды членов Политбюро в полевой ленинской комнате, будто ничего важнее в мире нет: члены Политбюро мрут, как мухи, и порядок всё время меняется. Ничего не поделаешь, перекрёсток стратегических дорог, начальству как мёдом намазано. Самый противный гость – капитан, может, «молчи-молчи», может, из ПГУ: лицо из сырого теста, мелкие зубки, въедливые вопросы.
Иногда бывает легендарный Аждах, а с ним – некто странный, белоголовый, надевает поверх «афганки» светлый цивильный плащ и спускается в кишлак, на переговоры. Говорят, местные недовольны то ли набегами царандоя на рынок, то ли медленным строительством школы, под которую расчистили площадку и на том остановились. Да эти «духи» всегда чем-то недовольны – когда едешь на броне мимо дувалов, из щелей так и зыркают злые глаза, на дорогу выбегают босоногие бачата, изображают стрельбу по колонне, трясут палками, кричат «тра-та-та» и хохочут, сверкая зубами, ослепительными на фоне смуглых мордашек.
Опять приехал Аждах, на этот раз один. Выслушал рапорт лейтенанта, у которого каждый раз смущение: воинское звание важного гостя неизвестно, приходится применять неуставную форму «товарищ Аждахов». Уронил «вольно, действуйте по распорядку», пошёл гулять по блокпосту, шумно втягивая воздух, словно принюхиваясь. Отозвал в сторону молодого из третьего отделения, за фамилию Папин получившего издевательское прозвище «Отец». «Отец, душара, иди нужник чистить», «Отец, предъявить фанеру для проверки» – дико же смешно, «деды» животики надрывают. Интересно, что за дело такому серьёзному человеку, как товарищ Аждахов, до затравленного чмошника?
* * *
– Ну, не реви. Не реви, кому говорю.
– Ночью скорпиона в сапог подкинули, дохлого. А я же не знал, что дохлый. Скакал по всей палатке, печку уронил, а они ржут. Потом ещё навешали за печку, а я что, виноват?
– Понимаешь, боец, все люди делятся на две категории: те, кто трахает, и те, кого трахают. По жизни.
– И что делать?
– Менять категорию. Хочешь трахать, боец? Вижу, хочешь. А знаешь, что есть вершина власти над людьми? Убивать. Распоряжаться жизнями, решать, кому пора, а кого пока оставить. Хочешь убивать, боец?
* * *
Дилара на фарси означает «красавица», девчонке всего восемь, а уже видно: растёт будущая героиня беспокойных снов всех юношей кишлака, а то и вилаята. Волосы у Динары густые, волнистые, чёрные, глаза будто крупные изумруды чистейшей воды, кожа нежная, как крыло бабочки, и вся она словно бабочка, порхает, танцует, радует взор.
Дедушка у Динары человек уважаемый, всё время гости, разговоры за дастарханом, советоваться приходят самые разные люди, спрашивают: «Как мне поступить, Мухаммад-ака?» – дедушка задумается, огладит белую бороду, прикроет глаза, гости замолчат, чтобы не мешать, и тут донесётся детский смех из сада, словно зазвенит серебряный колокольчик; Мухаммад-ака улыбнётся, разгладятся морщины, глубокие, как ущелья Гиндукуша. Скажет:
– Это внучка, Дилара, цветок моего сердца.
В тот день девочка играла в саду, наряжала куклу, примеряла ей золотое платье из соломы, украшала кусочками фольги: кукла ждала принца и должна была выглядеть соответственно. Принц не явился на белом коне, а просто перелез через дувал: раздался шорох, посыпалась штукатурка, затрещали ветки абрикоса. Принц спрыгнул на землю и оказался шурави в зелёной одежде, которую носят солдаты.
Дилара рассмеялась:
– Где твой верный скакун, где твой расшитый серебром плащ, где твой хорасанский меч, о принц?
Шурави не понял, что говорит девочка. Он подошёл совсем близко, зажал ей рот воняющей табаком ладонью, вместо хорасанского клинка вытащил из ножен армейский штык-нож и распорол живот девочки от паха до груди.
Девочка трепетала в руках шурави, извивалась, как червячок в клюве птицы; шурави всё бил и бил, тогда он ещё не умел попадать в сердце с первого раза. Когда Дилара затихла, шурави пошёл в дом и убил ее маму, а после нашёл самого Мухаммеда, спящего после обеда, и перерезал горло одним верным движением. Он быстро учился. Протёр забрызганные кровью глаза и рассмеялся, потому что всё и вправду вышло легко. Затем он сделал, что ему велел Аждах: бросил на глиняный пол армейскую панаму с красной звёздочкой и аккуратно положил окровавленный штык-нож. Но уходить с пустыми руками не хотелось, поэтому он забрал новенький пчак с острым широким лезвием. На память.
* * *
Чернобородый Исмаил, сын Мухаммада, не плакал, не рвал волосы и не катался в пыли, когда три тела в белых саванах ещё до заката отнесли на кладбище; он словно закаменел, не слышал вопросов и не отвечал на них. Он сидел в саду прямо на земле, держал в руках перемазанную кровью куклу и молчал.
Он сидел всю ночь, до часа быка перед рассветом, когда лошади ложатся на землю, а демоны господствуют над миром. Тогда он очнулся, подозвал рыжего Хакима и сказал:
– Теперь я глава Бахоризуммурада. Я хочу, чтобы каждый мужчина кишлака бросил все дела, облачился в одежды решимости, переступил порог сомнения, взял оружие и пришёл на главную площадь. Грядёт новый день и знает Пророк, мир ему, что шурави не забудут этот день никогда, а их дети, внуки и проклятые потомки будут визжать от ужаса, вспоминая его.
* * *
Колонна сто сорок седьмого мотострелкового полка шла четвёртый час; натужно ревели «камазы», карабкаясь на подъёмы, дремали на деревянных лавках бойцы, головная бээмпешка весело звенела гусеницами по камням; на её броне разлёгся старлей в японских солнечных очках – пристроил поближе кассетный магнитофон «Легенда» и фальшиво напевал «Ю май харт, ю май сол»; старлей наслаждался мыслью, что заменщик уже в Кабуле и завтра, максимум послезавтра прибудет в полк, значит, этот марш последний на афганской земле, будь она неладна; и очень хорошо, что последний марш выпал заведомо спокойным, по мирной дороге, «зелёнка» здесь только радовала глаз, а не грозила засадой. Это не наливники сопровождать в Файзабад, когда трясёшься двенадцать часов подряд, вглядываясь до пятен в глазах в пёстрые горы и ожидая выстрела каждую секунду. Старлей толкнул развалившегося рядом сержанта, показал рукой:
– Видал, на горушке? Блокпост, наши пацаны, из шестой роты. У них тут курорт: кишлак мирный, рынок рядом.
Рынок, кстати, был пуст: только ветер гулял между ветхими навесами, гонял мусор и играл в футбол шарами перекати-поля; да бог их знает, этих «духов», может, сегодня выходной в честь какого-нибудь местного басурманского святого.
Сержант согласился:
– Я тут черпаком три месяца киснул, скука.
Приподнялся на броне и помахал рукой. Часовой, огородным пугалом торчащий над каменной стенкой блокпоста, помахал в ответ.
Колонна медленно огибала гору, заползая в ущелье; на блокпосте тем временем личный состав стоял в строю, а прапорщик орал:
– Я вас научу родину любить, засранцы! Расслабились, понимаешь, как пенсионеры в санатории ВЦСПС. Куда он делся, а? Кто последним видел Папина?
– Вчера был с утра. А после завтрака куда-то смылся.
– Говно в унитазе смывается! А солдат самовольно оставляет расположение воинской части. Вашего товарища сутки нет, и хоть бы хны.
– Отец-то? Да кому он товарищ, чмо задроченное. Что есть, что нет.
– Отставить! Лейтенант, придётся докладывать.
– Да уж, никуда не деться, – вздохнул лейтенант. – Радист, ко мне. А ты, прапорщик, готовь солидол, да побольше, чтобы на две жопы хватило, и тебе, и мне.
Часовой краем уха слушал эту канитель. Надо же, Отец пропал! Где он бродит, интересно? Часовой вздохнул: до смены было ещё полчаса, а курить хотелось страшно. Двинулся вдоль ограды, ища укромный уголок, где прапорщик не засечёт. Отвернулся от ветра, достал пачку «Памира», сунул сигарету в зубы, принялся чиркать спичкой, услышал шорох за спиной, но развернуться не успел: удар, боль, тьма.
Через ограду полетели гранаты.
Старлей на броне во главе колонны вздрогнул: показалось, что услышал взрывы. Нажал клавишу «пауза», оглянулся на блокпост, поэтому не видел, как сверкнули вспышки и к колонне потянулись дымные хвосты реактивных гранат; первая ударила под башню, вторая в правый борт, в небо рванулся чёрно-оранжевый столб. Водитель идущего за БМП «камаза» вскрикнул, дёрнул руль влево, машина вильнула и тяжело сунулась в кювет; небо пылало огнём, пули прошивали брезент, рвали дремлющих бойцов, вышибая фонтанчики крови. Колонна пылала, машины тыкались друг в друга, искали, как ищут слепые щенки сукину титьку, но находили только смерть; кто-то успел выскочить, залечь за колесом, отбиваясь торопливыми очередями в никуда, наугад; командовать было некому, старлей с оторванными ногами поорал и затих, через восемь минут всё было кончено.
Подходили люди в перуханах и паколях, добивали раненых, выворачивали карманы, вытаскивали из огня ящики с мылом и тушёнкой, сбивали ленивое пламя с дощечек. Исмаил не стрелял в обречённых – вставал рядом на колени, перерезал горло, вытирал лезвие о штанину партуга, шёл к следующему.
Лицо у него было чёрное, словно обугленное.
* * *
Лицо у плечистого полковника было чёрное, словно обугленное.
– Сорок два «двухсотых»! Мирный кишлак, твою мать.
Капитан оскалил мелкие зубы:
– А я предупреждал: никаких переговоров, это восток, только силу понимают. Деньги взяли, обязательства не выполнили, мошенники.
– Да какие ещё деньги! Сорок два пацана, а он про деньги! Лучше заткнись, капитан.
Полковник замолчал, молчали офицеры штаба дивизии. Капитан укоризненно качал головой, Рамиль отстранённо смотрел в окно. Полковник подошёл к большой настенной карте района боевых действий, нашёл кишлак, обвёл красным кружком, потом перечеркнул крест-накрест, ещё раз, ещё; карандаш дрожал, грифель крошился, оставляя дорожку алых следов, словно из кишлака вытекала кровь. Наконец, полковник сказал:
– Пока генерал в Кабуле, я как временно исполняющий обязанности командира дивизии принимаю решение: кишлак уничтожить. Командирам артполка и отдельного реактивного дивизиона подготовить боевые приказы, времени даю час. С вертолётчиками свяжусь сам. Свободны, товарищи офицеры.
* * *
– Ты, я смотрю, совсем рехнулся, теперь постоянно в балахоне. Зачем в белом плаще, снайперов радовать?
Рамиль покачал головой, протянул раскрытый портсигар:
– Угостишься?
Конрад стоял посреди закопчённого блокпоста, запах горелого мяса ещё не выветрился. Может, не выветрится никогда.
– Это мирный кишлак, Мухаммад клялся мне самым дорогим – здоровьем внучки. Какая-то чудовищная ошибка, люди не виноваты.
– Лю-юди, – протянул Рамиль и сплюнул. – Какие тут люди, басмачи голимые! Я их ещё в двадцатые гонял, насмотрелся.
Конрад подошёл к нему:
– Я чувствую, это твоих рук дело. Опять кровь, и её будет всё больше. Почему ты их ненавидишь? И этих, и наших.
Рамиль улыбнулся:
– Лес рубят – щепки летят, большое дело без крови не делается. Афганистан – сердце Азии, отсюда на Пакистан, потом Индия, Тибет, Синьцзян. Оцени размах! Всё в интересах державы.
– Какой державы, Рамиль? Ты ненавидишь Европу и презираешь Азию, а ведь из них и состоит наша страна. Тебе нет дела до державы, тебе нужны только трупы. Я иду в кишлак, выяснять и договариваться.
– Конрад, к чёрту геополитику, давай о нас. Тебе пора решать, давно пора. Ты нужен мне, и прекрасно знаешь, что без твоей помощи…
Конрад не слушал. Он шёл вниз по склону, к замершему кишлаку, где не звучал детский смех, не звенели посудой хозяйки, даже овцы и собаки притихли.
Рамиль посмотрел на часы, усмехнулся.
Конрад почти дошёл, когда заревело небо.
Длинные серебристые ракеты «градов», волоча белые плюмажи, мчались наперегонки с тяжёлыми гаубичными снарядами, со стороны солнца заходило звено «крокодилов». Конрад замер, повернулся к вертолётам, раскинул руки, словно пытаясь закрыть собой кишлак; на миг показалось, что из его плеч растут гигантские белые крылья, но ракеты разорвали тонкую плёнку и вгрызлись в кишлак, круша глиняные дома, заботливо выращенные сады, набитые ужасом овчарни; грохотали взрывы, вознося в небо смесь обломков и человеческих обрывков, пылал камень и хохотал Рамиль, сидящий на ограде сгоревшего блокпоста.
Вечером уцелевшие, покидая дымящиеся развалины, обнаружили за разрушенным дувалом обугленное тело, облачённое в светлый плащ, какой носят европейцы; выглядело это странно, будто сначала человека сожгли, а уже потом завернули в белую одежду, как в саван. Человек вдруг очнулся и застонал; Исмаил, неловко прижимая к животу флягу покалеченной рукой, второй рукой выдернул пробку, дал ему напиться и велел двум юношам сделать носилки из обгоревших слег и рогожи.
Исмаил вёл остатки своего племени на восток, к перевалу. Он ни разу не оглянулся на чёрные руины, бывшие когда-то кишлаком Бахоризуммурад.
Особняк Акселя, осень
Игорь закончил рассказ.
Аксель скривил рот, пробормотал:
– Немыслимо.
Игорь подхватил:
– Да, Семён Семёнович, вы не тому доверились. Рамиль ужасен, ему плевать на человеческие жизни, и вашу тоже…
– Немыслимо! – перебил Аксель. – И этому придурку я доверил расследование. Да, теряю хватку, жалею, а зря.
– «Придурок» – это про кого?
– Про тебя! Придурок наивный, да ещё и профнепригодный. Ты хоть понял, кто был тем капитаном в Афганистане, куратором сто сорок седьмого гвардейского мотострелкового полка? Двадцать тысяч долларов – это сейчас тьфу, а тогда – сумасшедшие деньги. Мой стартовый капитал – «Памир» с них начался.
– Семён Семёнович, вы не поняли, Рамиль – страшный человек…
Сзади скрипнуло, Игорь обернулся, с удивлением глядя на стенную панель, оказавшуюся дверью.
– Человек? Так меня давно не оскорбляли, – улыбнулся Рамиль. – Но страшный, да. И прозорливый. Насчёт тебя, Игорёк, я всё просчитал верно, сейчас будем ждать приезда Елизаветы и Конрада.
Ожил динамик:
– Семён Семёнович, охрана сообщает: внизу рвутся к вам, очень настойчивые. Говорят, вы их обязательно примете.
Аксель осклабился:
– Настойчивые, говоришь?
– Точно так, Семён Семёнович. Непонятно, как они вообще добрались, всё же перекрыто.
Рамиль зааплодировал:
– Кто молодец? Я молодец. Впускай обоих, голубчик.
– Ага, – кисло сказал секретарь. – Только их трое. Помощница Дьякова, пенсионер и девочка с травяными волосами.
Аксель вопросительно взглянул на Рамиля, тот кивнул:
– Гулять так гулять.
* * *
В тот раз я восстанавливался долго. Не думаю, что из-за ожогов; да что там ожоги – это просто кожа пузырями, а я превратился в головёшку, даже уши и глаза сгорели. Я долго плавал в абсолютной тьме и тишине. Не скажу, что мне это не нравилось, полное отрешение от мира имеет свои прелести.
Так вот, дело было не в теле, которое превратилось в уголь, дело было в душе. Меня использовали для того, чтобы обмануть, убить, сжечь людей, и я охотно выступил орудием смерти. Мысль переиграть Рамиля на его поле изначально была глупой. И это был последний удар, крепость моя рассыпалась серыми никчёмными песчинками.
Через месяц в армии Панджшерского Льва появился особый диверсионный отряд Исмаила, бесстрашные жестокие бойцы. Они называли себя «динарами» и носили песочные паколи с двумя вышитыми зелёной нитью глазами, но никому и в голову не пришло бы посмеяться над названием и формой. Отчаянные атаки «динаров» на русские гарнизоны и колонны каждый месяц приносили десятки смертей. Рамиль был доволен, ведь в ответ горели новые пуштунские, таджикские, хазарейские кишлаки.
Меня горными тропами переправили за границу, я долго жил в стране, забытой всеми богами, включая Аллаха. В той стране всё происходило медленно, никто никуда не спешил, и даже полицейский с бамбуковой палкой говорил вору:
– Э, уважаемый, ну кто грабит в такую жару? Пожалей себя и меня, давай посидим, отдохнём, переживём как-нибудь этот полдень.
Они садились на пятки в тени, разговаривали, играли в нарды, выпивали кофе, принесённый хозяином ограбленной кофейни, и лишь прохладным вечером возобновляли игру, убегая и догоняя неторопливо, солидно.
Я не хотел возвращаться. Я потерял веру и надежду, осталась лишь любовь. Только любовь к стране, брошенной (или охотно приползшей?) к ногам рамилей, заставила меня вернуться.
Жалел ли я теперь? Да. Я наивно верил, что рассосётся само. Я обманывал себя. Само – никак. Но и победить Рамиля невозможно. Я добровольно приблизил своим возвращением то, что оттягивал.
Жалел ли я теперь? Нет. Хотя бы из-за этих девочек, Елизаветы и Белки.
И Насти, разумеется.
* * *
Елизавета оттолкнула охранника, бросилась к Игорю. Огладила ладонями, словно убеждаясь: настоящий, живой.
– Ты цел? Ничего не болит?
– Как трогательно, – усмехнулся Аксель. – К нашему мальчику маманя приехала.
– Цел он, сударыня, – сказал Рамиль. – Кому он нужен?
Елизавета обернулась к нему, золотая львиная грива рассыпалась по плечам.
– Если не нужен, зачем похитили?
– Ну, вы же поняли, сударыня. Нужен нам совсем другой фигурант, Игорь был лишь приманкой.
– С самого начала, – горько сказала Елизавета. – С самого начала этой истории вы использовали нас, как сыр в мышеловке.
– Да, но нет. Разве Конрад – мышка? Этот зверь покрупнее. Да, дружище?
Конрад молчал. Выглядел он плохо, словно постарел лет на двадцать за те два часа, пока пробирались через город, забитый войсками, закупоренный бляшками нацгвардейских постов; пришлось использовать способности, и это сильно вымотало.
– Тем не менее вы получили своё. Я привела Конрада, отдайте мне Игоря, и мы уйдём.
– Как вам это удалось? – спросил Аксель. – Вся полиция города, да что там… Моя служба безопасности трижды пыталась его задержать, в итоге я потерял семь лучших сотрудников. Нет, они живы, но, как бы это… Неработоспособны, им только клубнику выращивать или на вахте.
Елизавета ответила:
– Потому что у Конрада есть совесть, в отличие от вас, господин Аксель. Он готов пожертвовать собой, чтобы спасти человека, который нуждается в спасении.
Конрад подошёл к Рамилю, тихо сказал:
– Ты добился своего, я здесь и добровольно. Отпусти детей.
– Вот уж нет, – ухмыльнулся Рамиль. – Мне нужны гарантии, что ты не соскочишь в последний момент, как уже бывало. Они поедут с нами, все трое. Увертюра закончена, приступаем к основной части пьесы. Мне нужны зрители.
– Мы никуда не поедем, – сказала Белка. – Вы не имеете права.
– Мы имеем всех и всё, в том числе права и право, – хохотнул Аксель и кивнул охране. – Давайте, только не поломайте игрушки.
Мордоворот в сером костюме шагнул, схватил Елизавету за локти; девушка резко ударила затылком в широкое лицо, развернулась, добавила коленом в пах; Игорь схватил со стола тяжёлое пресс-папье, швырнул в Акселя, тот еле успел увернуться; Белка содрала с шеи фотоаппарат, обхватила толстый объектив, словно рукоять боевого молота, и отмахивалась им; битва кипела по всему пространству кабинета, лишь Конрад стоял, привалившись к стене, а Рамиль курил и поглядывал в окно. Сказалось численное и качественное превосходство акселевской охраны, бунт был подавлен, олигарх вылез из-под стола, распорядился, скованных наручниками Елизавету, Белку и Игоря поволокли вниз. Рамиль погасил окурок о двухметровую китайскую вазу, сказал Конраду:
– Ну что, пошли. Надеюсь, дорогие тебе люди – достаточный аргумент, чтобы ты не артачился.
– Грубо сработано, Рамиль. Очень грязно.
– Тебе не угодишь, чистюля.
Конрад передёрнул плечами, сунул руки в карманы светлого плаща и пошёл к двери.
* * *
Несмотря на сопровождение машин ГИБДД и ВАИ, колонна из лимузина Акселя и микроавтобуса с охраной и пленниками двигалась медленно, объезжая бронетранспортёры на перекрёстках. Конрад смотрел сквозь тонированное стекло на пустые, замершие улицы, на нацгвардейцев в шлемах с опущенными забралами, за которыми не разглядеть глаз. На скулах Рамиля выступили розовые пятна, словно следы залеченной проказы; от возбуждения он говорил много, сбивался на таджикский, потирал руки:
– На этот раз всё выйдет, касам мехурам, может, и хорошо, что в девяностые ты пропал, тогда могло не получиться.
Когда выбрались на западный скоростной диаметр, дело пошло гораздо веселее: диаметр пустовал, лишь на пунктах оплаты торчали огородными пугалами фигуры часовых. Колонна шла под сто пятьдесят, машины сопровождения взрыкивали сиренами на пустой трассе то ли от скуки, то ли чтобы подбодрить себя; Конрад не слушал болтовню Рамиля, смотрел на мокнущие деревья, на белокожие, в черных язвах, стволы, на бессильные ветви с жёлтыми листьями, словно берёзы, увидев караван из белого полицейского «форда», рыжего фургона охраны, чёрного лимузина и серого военного джипа, хотели бросить под колёса золотые монеты, откупиться – да поняли, что не выйдет, не получится, и опустили в отчаянии руки.
Потом мчались по дамбе, рассёкшей Финский залив надвое, разлучившей воду; теперь болтал Аксель, вспоминая, как удалось поставить для строительства дамбы песка больше, чем имеется в пустынях Каракумы и Кызылкум, вместе взятых, – разумеется, только по документам; Конрад смотрел на свинцовые волны, привстающие на цыпочки при виде сверкающей колонны и тут же затихающие, замирающие.
Выехали на южный берег залива, повернули направо, обогнали колонну мотострелков; стадо камуфлированных динозавров с гвардейскими знаками на боках ползло медленно, обречённо, торчащий в люке переднего бронетранспортёра офицер поглядел Конраду прямо в глаза, словно мог увидеть что-то сквозь тонированное стекло.
Колонна резко сбросила скорость, Конрад качнулся вперёд, ударился лицом о спинку водительского сидения, даже не пытаясь прикрыться руками. Рамиль сказал:
– Приехали. Сосновый Бор.
* * *
Ленинградская АЭС, зима
Небо над Городом закипело, скорчилось и лопнуло, расплылось гигантским чернильным пятном, стекающим грязными щупальцами к горизонту; ветер с запада набирал силу, гоня свинцовые шеренги волн на оборонительный рубеж дамбы; бурлящая чернота полыхала ослепительными беззвучными молниями, ветвящимися на сосуды, сосудики, капилляры, словно кровью неба стал холодный огонь.
Из ждавшей на месте неприметной «лады» вылез человек в камуфляже, подошёл.
– Всё в порядке, Рамиль Фарухович.
– Славно, Отец. Отец-молодец.
Неожиданно повалил снег, хлопья падали косо, будто пикировщики заходили в атаку. Аксель поёжился:
– Не рановато для зимы? Да отстань ты со своим зонтом, – он оттолкнул суетящегося секретаря.
– Не рано, в самый раз. Теперь зима надолго. Навсегда.
Аксель покосился на Рамиля, решился, тихо спросил:
– Зачем всё-таки приехали? Здесь опасно.
– Трясёшься, Аксель? Верно, бойся. Ничего не даётся бесплатно, особенно вечность. Выпускайте на арену овечек.
Из фургона вытащили бледного Игоря, разъярённую Елизавету, Белку с заклеенным чёрным скотчем ртом. Охранник показал перевязанный носовым платком палец:
– Кусается, зараза.
– Молодым палец в рот не клади, – заметил Рамиль. – А теперь всем заткнуться и слушать. Временем можно управлять, например, атомная станция взорвётся только через пятнадцать минут, а диверсанты уже найдены и обезврежены, они совершенно неожиданно оказались гражданами Идамаа. Так, Отец? Радиоактивное облако дойдёт до границ города за час, в центр за два часа.
Последствия ужасны, но на провокацию натовцев мы дадим достойный ответ. Спасибо, вы прослушали завтрашние новости.
Елизавета всхлипнула, Белка замотала головой, замычала, побледневший Игорь покачнулся, но охранник удержал. Аксель вновь поёжился:
– И всё-таки, может, поедем отсюда? Пятнадцать минут – совсем мало.
– Девятьсот секунд – это очень много. Бонапарт за меньшее время в Тулоне принял верное решение и начал карабкаться к трону, Цезарь – наоборот.
Аксель поглядел на гигантские дымящие трубы станции, похожие на буддийские ступы. Пробормотал:
– Слишком близко, не хотелось бы поймать радиационное излучение.
– С кем приходится работать, – вздохнул Рамиль. – Уже объяснял тебе: это не ядерный взрыв, обычная взрывчатка, вскроет реактор и всё. А теперь повторяю: заткнись. У меня важный разговор.
Подошёл к Конраду, оглядел, словно давно не видел.
– Кон-рад. Скажи, кого ты пытаешься обмануть, себя? Думаешь, переставил буквы – изменилась суть? Восемьдесят лет ты бьёшься с самим собой, со своей природой. Зачем? Думаешь, они оценят? – Рамиль дёрнул подбородком, показывая на стоящих за спиной охранников и пленников. – Ни хрена они не оценят, ещё и грязью измажут. Никчемная биомасса, шлак.
– Не надо так про людей.
– Про людей? Эти люди продали меня, шестилетнего мальчишку, в рабство. Надели верёвку на шею… Знаешь, как сдирает детскую кожу грубая верёвка из конопли? И таскали, показывали, как мартышку. Нет, за обезьянку больше денег подают, чем за сопляка, за это мне тоже доставалось, я был плохим активом, неудачным вложением. Люди вырезали мне сердце, люди стреляли мне в лицо и в спину. Ты про себя вспомни, папаша бросил вас подыхать в обречённом городе. Люди!
Рамиль растерял всю легендарную невозмутимость, покраснел, брызгал слюной.
– Люди! Люди рубили тебя топором, душили блокадой, уморили голодом бабушку, снарядным осколком оторвали голову матери.
– Нет, это были не люди.
– А кто?
– Нелюди. Хотя им тоже когда-то надели на шею верёвку, вот они и… Их тоже можно было спасти.
– Слова, слова, пустые слова. Твои глупость и упрямство безграничны. Судьба дала тебе колоссальные возможности, а ты распорядился ими бездарно. Но теперь всё, хватит. Не хочешь сам – я тебе помогу.
Рамиль обернулся к охранникам:
– Поставьте их на колени.
Пленников заставили опуститься, приставили стволы к затылкам.
– Первого убьют выстрелом. Если ты продолжишь упрямиться, вторую будут резать ножом, долго, умело. Так, Отец? Отец любит играть в ножички. А третью…
Конрад покачнулся, поднял ладони:
– Подожди.
Игорь закричал:
– Анатолий Ильич, не слушайте его. Не знаю, чего он от вас хочет, но не соглашайтесь, нам всё равно всем конец, так хотя бы с гордо поднятой головой…
– Какая чушь, – вздохнул Рамиль. – Стоя на коленях, но с гордо поднятой головой. Заткните его.
Игорь дёрнулся, уклоняясь от охранника, крикнул:
– Анатолий Ильич! Я прошу… – и захлебнулся, подавился кляпом.
– Не слушай его, – улыбнулся Рамиль. – Ты всегда делаешь глупости ради никчемных людишек, так хотя бы раз поступи разумно ради себя. Ты – не они, не человек.
– Я – это они. Таня Дубровская, погибшая в феврале сорок второго, – это я, как и Серёжка Тойвонен, утонувший на Дороге жизни, и поэт Георгий Цветов, и виолончелист, умерший от голода во время репетиции, и сотни тысяч других. Я – это Город, его кладбища и братские могилы.
Рамиль снова вздохнул:
– Что же, будем считать, что план «А» не сработал, приступаем к плану «Б». Отец, действуй.
Человек в камуфляже кивнул, подошёл к неприметной «ладе», распахнул дверь, вытащил извивающегося ребёнка. Елизавета поняла, закричала, Конрад вздрогнул, прикрыл ладонью глаза.
Человек в камуфляже обхватил Настю, держа у горла пчак, Рамиль сказал:
– Отец умеет резать маленьких девочек, руку набил. Ты действительно хочешь этого, Дракон?
– Он не дракон! – крикнула Настя. – Он добрый и огнём не жжётся.
Рамиль подошёл, опустился на корточки перед девочкой. Протянул руку, тронул растрёпанные золотые волосы. Настя замотала головой, скривилась:
– Ты плохой! Отпусти Конрада, маму, всех отпусти.
– Не дракон, говоришь? Смотри, девочка.
Рамиль поднялся, подошёл к Конраду, распахнул светлый плащ, разорвал рубашку.
– Все смотрите.
Аксель поморщился, Елизавета охнула: тело Конрада было покрыто, словно струпьями, чёрными чешуйками, часть их была вырвана, раны сочились сукровицей. Настя заплакала:
– Бедный, тебе так больно!
Рамиль закричал:
– Ты дракон, как и я, сынок. Я с тобой – одно, родитель и детёныш. И третья часть, великая Пустота. Она ждёт.
Отвечая на эти слова, завизжало чёрное небо, загрохотало, ударило ледяной волной; рухнули на землю охранники, завопили сирены машин.
– Ждёт!
Били ледяные молнии, ревел Рамиль, запрокинув стремительно чернеющую морду, расправляя кожистые крылья, хлеща хвостом по земле, и тогда Конрад рванул светлый плащ…
* * *
Я видел, как красные цифры взрывателя корчатся, истекают, превращаются в нули.
Я видел, как покрываются радиоактивным пеплом, умирают улицы Города.
Я слышал, как ревут дизели ползущих на рубеж атаки «армат» сто сорок седьмого гвардейского мотострелкового полка.
Я ощущал испуганную дрожь земли под копытами воняющих серой туменов.
И тогда я содрал чешую, вырвал то, что было когда-то сердцем, и бросил на землю…
* * *
Полы разорванного плаща затрепетали, стремительно покрылись белоснежными перьями; ангел взмахнул крылами и вонзился в кипящее небо, следом мчался чёрный дракон, отставая лишь на мгновение, – но этого мгновения хватило.
Когда крыша реакторного корпуса вздыбилась, разорвалась, выбросила смертельное пламя, ангел успел расправить крылья, прикрыл всё небо, превратившись в сверкающий купол; чёрный дракон завизжал, выгнулся, пытаясь остановиться, ударился, вспыхнул, рассыпался пеплом.
Чёрное облако взвыло, сморщилось, превратилось в пятно, в точку, исчезло, снег перестал, небо начало осторожно наполняться синевой.
Игорь бил охранника скованными руками, тот корчился, прикрывая голову огромными кулаками, просил: не надо, не надо.
Отец уходил в лес, гладя рукоять пчака, извиняясь, успокаивая.
Аксель сидел в грязи, прижав к груди гигантский изумруд; камень стремительно темнел, превращался в никчёмный булыжник, Аксель не понимал, мелкозубо скалился.
Белка пинала убегающего охранника, матерно мыча сквозь скотч.
Елизавета ткнула в лицо секретаря наручниками:
– Ключи, живо!
Потёрла запястья, бросилась к Насте. Гладила по золотым волосам, ласково шептала. Девочка теребила уши оранжевого зайца.
Улыбалась.
Город, весна
Дождевые капли деликатно стучали в стекло квартиры на восьмом этаже «корабля», заглядывали внутрь, смущались.
Губы распухли от поцелуев, сладко ныли мышцы, два сигаретных огонька мерцали во тьме, как два маяка, указывающие путь звёздным кораблям; влажная простыня перекрутилась жгутом, потерялась в ногах.
– Ты прости меня. Я ничего не понимал, не видел. Не думал. Столько лет потеряно.
– Наверстаем, – сказала Елизавета. – Вся жизнь впереди. Это ты меня прости.
– Тебя? За что?
Елизавета смущённо рассмеялась:
– Всё так неожиданно, даже ноги не побрила.
– Дурочка. Значит, у тебя никого нет. Или не было в последнее время.
– С такими аналитическими способностями, шеф, вам вместо бабушки Ванги надо.
– Знаешь, я даже благодарен Рамилю. Не удивляйся, правда. Если бы не эта встряска, я бы так и не разглядел, что в моей жизни главное.
Стена окрасилась розовым, солнце поднималось, несмело оглядываясь: уже можно?
– Вот дорвался до бесплатного, давай прервёмся на минутку. Хочешь бутерброд?
– О, бутик! С ветчиной, м-м-м.
– Это вряд ли, но где-то был кусочек сыра, не до смерти засохшего. Где мой халат?
Скрипнула дверь, вошла Настя в пижаме с жирафами, таща за ухо оранжевого зайца.
– Дядя Игорь, а где мама?
– На кухне. Я тебе не дядя, а папа.
– Я помню, вы мне вчера пять раз сказали, дядя Игорь.
– Вот и называй меня папой.
– Хорошо, дядя Игорь. Я позавтракаю и пойду гулять. С Конрадом, ладно?
– Не получится, Настенька. Видишь ли, Конрада больше нет.
– Чего это нет? Вот же он.
– Горрох!
* * *
Громадный танк дремал на перекрёстке, солдаты жмурились на ярком солнце, стреляли сигареты у нацгвардейцев, повесивших шлемы на пояса; люди продолжали суетиться, зачем-то строили баррикаду, лысый в казачьей форме с голубыми лампасами тащил железную трубу на пару с бородатым в радужной футболке, ворчал:
– Ты край-то свой подыми, тасазать. Да не кряхти, голубенький.
Строительством баррикады руководил смуглый азиат в оранжевом жилете, начальственно покрикивал. Подъехал трейлер с длиннющим бортовым прицепом, из кабины выбрался дядя в засаленном галстуке, крикнул:
– Парни, давайте сюда, выгружайте. Металлоконструкции отборные, Филимонов дерьма не делает, никакой танк не возьмёт.
Танк никуда и не собирался, механик-водитель сидел на броне, стащив шлемофон, слушал девушку с короткими зелёными волосами.
– Всё, двадцатый век двадцать лет как кончился, пора отряхнуться, избавиться от хлама, снять старые одежды, понимаешь?
– Одежду снять – легко, было бы с кем, – хохотал танкист.
Дворник с редкой бородёнкой приволок пылающий медными боками самовар. Приглашал:
– Щай, пожалуйста.
Черноволосая девушка в ситцевом платье вальсировала с черноусым щёголем в гимнастёрке и синих галифе – под музыку, которую слышали только они.
Подъехал грузовик, уставленный мощными колонками, откинул борта; знаменитый рэпер встал за пульт, начал:
Они сказали – нас поздно спасать и поздно лечить.
Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы…
Синеглазый мальчик с волосами белыми и мягкими, как тополиный пух, сидел на поребрике, вертел головой, словно не понимал, как сюда попал. Подошла девочка с воронёнком на плече, сказала:
– Чего скучаешь? Пойдём, я тебе тополь покажу, он совсем старый, но крепкий, до неба вырос.
– А меня возьмёте? – спросил скуластый мальчишка в лохмотьях.
– Возьмём, только верёвку с шеи сними.
Город строил баррикады, братался с нацгвардейцами, ел гречу с курой, целовался, скачивал курсовики, отдавал и принимал швартовы, смывал копоть с ангела на Дворцовой.
А над Городом парил планер с белыми бумажными крыльями.
«Зачем их стригут наголо? Не разберёшь, где мальчик, где девочка».
Он старался смотреть поверх стриженых макушек. Лишь бы не видеть эти пустые глаза. Дети глядели внутрь себя. А там, внутри…
Молчание становилось нелепым. Пора было начинать. Сжал кулаки, поднялся.
– Итак, дети… – голос вдруг подвёл, соскользнул в фальцет.
Покраснел. Схватил стакан, застучал зубами о край. Начал снова:
– Итак, дети, я психолог. Я здесь, чтобы помочь вам избавиться от кошмаров и воспоминаний. Есть такой способ – «визуализация страданий». Надо нарисовать то, что вас мучает. Подробно.
Чернявый (или чернявая?), с разорванным и небрежно зашитым ртом, что-то спросил, брызгая слюной. Психолог смотрел на лопающиеся пузыри – и не мог разобрать ни слова.
– Простите?
Чернявый повторил, помогая руками. Взрослый беспомощно поморщился. Белоголовый мальчик за передней партой объяснил:
– Он спрашивает: и что, после этого мы всё забудем? Ну, как нарисуем.
– Наверное, нет, – растерянно пробормотал психолог. – Но зато…
Чернявый пробулькал что-то обидное, встал и пошёл на выход. За ним потянулись остальные – на костылях и своих двоих, с повязками и без. Класс опустел.
Белоголовый за передней партой поднял руку:
– Я плохо умею рисовать ручкой, а красок тут нет. Можно, я напишу?
Психолог смотрел на закрывшуюся за ушедшими дверь. Машинально достал сигарету, начал разминать дрожащими пальцами. Ответил не сразу.
– Что? Да-да, конечно.
Мальчик кивнул.
Наклонился над чистым листом и начал:
1. Мама. Наверное, осколком.
2. Бабушка. Увезли, и всё.
3. Папа. Не знаю.
Солнце жгло, как зенитный прожектор. Щупало небо, ища бомбардировщики – и не находило.
19. Сосед Антон Григорьевич из семнадцатой. В очереди за хлебом.
20. Варечка из второй парадной. Ушла за водой.
Психолог высыпал сигареты на стол и стряхивал пепел в пустую пачку.
194. Солдат с оторванной челюстью на дороге.
195–197? Медсёстры – три или пять, там перемешалось, не сосчитать. Бомба попала в санитарный автобус.
Белоголовый сбился. Не стал пересчитывать, заменил цифры звёздочками.
* Девочка на железнодорожной станции. Умерла, когда ела суп.
* Профессор в чёрном пальто. Не вышел из трамвая на конечной.
Звёзд становилось всё больше. Они собирались в созвездия и галактики: каждая звёздочка – обитаемая.
* Старик из провинции Панджшер. Противопехотная мина.
* Учительница из Герата. Беспилотник.
Давно иссякли чернила. Давно сточилось перо.
* Бородатый из Славянска. Снайпер.
* Танкист из Ужгорода. Гранатомёт.
* Мальчик из Пальмиры. Миномётный обстрел.
Солнце выгорело, погасло. Инерция Большого Взрыва исчерпалась, фотоны потянулись обратно, в исходную точку.
А список всё не кончался.